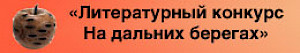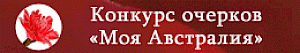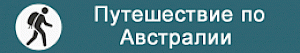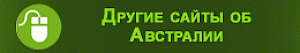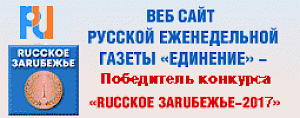Презентация книги Владимира Дубоссарского «Не читай чужих писем» состоится в среду 28-го апреля в 18.30 в общественном зале Муниципалитета Waverley, 31 Spring St. Bondi Junction. Книгу можно будет приобрести после презентации. Вход свободный. Справки по телефону 04 1457 3322.
(От автора.
Самое лёгкое на Bойне — это погибнуть. Не умереть, а именно погибнуть, встретить свою погибель. Ведь умирает человек на фронте так же, как и в тылу — от инфаркта, от аппендицита, от кондрашки, от воспаления легких, от циррозов да нефритов — этим напастям глубоко до лампочки, в танке ты или в трамвае, пилотка на тебе или шляпа соломенная. А вот погибнуть — проще пареной репы, хотя причин для этого у солдата —
Алексей Фомин — уцелел).
***
Он был зачат в холодную киевскую ночь, когда по давно не ремонтировавшимся улицам Подола медленно стекали, словно притягиваемые к себе Днепром, мутные потоки. Поручику Петру Фомину, женившемуся буквально накануне сараевских выстрелов, пришлось расстаться с Лидой через три недели после свадьбы. Вообще то, Пётр Фомин мог бы обойтись без фронта, а фронт — без Петра Фомина. Его родители, люди не бедные и высокообразованные, все свои средства и все знания вложили в своего единственного сына. Фомины поколениями жили в Воронежской губернии, и поэтому вопрос о поступлении Пети именно в Воронежский кадетский корпус, вобщем то, даже не обсуждался —
Кадет Пётр Фомин заболел пушками, мортирами, гаубицами, заболел всерьез. Прямым следствием этого явилось его появление в стенах одного из престижнейших военных учебных заведений северной столицы — Михайловского артиллерийского училища. Уже к моменту поступления в училище он свободно, хотя и несколько
Петербургский период жизни Петра Фомина был заполнен калибрами стволов, поражающей силой, расчетами траекторий. Он, как губка, впитывал в себя всё, что старались передать ему и его однокашникам профессора, добрые и мудрые чудаки, вроде генерала Цезаря Кюи, днем повествовавшего об основах фортификации, а по вечерам писавшего музыку. Любимым же преподавателем Петра был другой генерал — старенький профессор Николай Александрович Заблудский, преподававший основы баллистики — самого важного предмета для артиллериста, как был убежден юнкер Фомин.
(Пройдет менее трёх лет — и тело старого ученого, с проломленной головой, найдут на Литейном проспекте в одну из безумных февральских ночей безумного семнадцатого года).
От Петра отскакивали, как пули от стен фортеций, всевозможные радикальные, либеральные, попросту — антигосударственные идеи, те самые, которые без особых трудностей проникали в сердца и умы многих его однокашников. Семейный дом Фоминых, дом под далеким Воронежeм, оказался прочнее, чем питерские улицы, хотя они кипели и бурлили тут же, рядом, под боком. Пётр Фомин и его тезка и друг Пётр Бестужев окончили училище с погонами подпоручиков на плечах и с совершенно чётким намерением в душе — служить царю и отечеству, и никому более. Старое казалось прочным, надёжным и — вечным. Новое, или то, что называло себя новым, было чуждым, непонятным, и потому — враждебным. Дом оказался сильнее улицы.
В нём чувствовалась военная косточка, доставшаяся ему от поколений служак по отцовской линии. В сочетании с женитьбой на племяннице полковника генерального штаба, всё это означало военную карьеру — хорошую, благополучную, успешную карьеру русского офицера. И она уже началась, эта карьера — в артиллерийском управлении штаба Киевского округа. Но когда объявили мобилизацию, Пётр Фомин, не сказав ничего Лиде, явился к доброму, и строгому, и всеми любимому Антону Ивановичу Деникину, который незадолго до этого был назначен генералом для поручений при командующем округом, и попросился в действующую армию.
Они ещё успели съездить в свадебное путешествие, ещё успели насладиться друг другом, успели побродить босиком по лугам над сонной речкой со
Округ отправлял на фронт
Когда к сентябрю
Вернулся Бестужев хмурым и неразговорчивым, но у Петра не было времени выяснять причины плохого настроения друга. Он оставил расположение полка через два часа, сдав батарею командиру первого орудия.
Встреча Петра и Лиды, после почти годовой разлуки, была наполнена отчаянием и безнадежностью. Их расставание было прозаичным, даже будничным. Ранним сырым утром, когда
Когда Лида орала благим матом на весь белый свет, давая жизнь
В полевом госпитале сестра милосердия, чьё вечно хмурое лицо никак не соответствовало её должности, сообщила едва не умершему от потери крови поручику, что
В письме из Киева, которое сестра прочитала ему, Лида сообщала также, что вопреки всем ожиданиям, надеждам и молитвам, Бог благословил их не девочкой, а мальчиком, появления которого Пётр не хотел и даже боялся. Пётр безумно желал девочку, дочку, дочурку, которая, конечно же, будет такая же нежная и чудная, как и её мама. Все эти месяцы, в полубессонные ночи, прислонясь спиной к слизкой стене бруствера, по которой сползали
Но жена требовала имя мужское, и поскольку имя Алексея Aлексеевича Брусилова было у всех на устах, то вряд ли нужно было удивляться, что
А потом удивление прошло, и жизнь вошла в некую наезженную колею. Пётр беззаветно посвятил себя сыну. Лида с такой же беззаветностью посвятила себя себе. Шло время, приходили и уходили белые и красные, русские и германцы, поляки и украинцы, петлюровцы и деникинцы, Центральная Рада, большевики, наконец. Но всё так же цвели и отцветали липы на улицах Матери городов русских, всё так же шумел и пестрел Житный рынок, всё так же запиралась в своей комнате с томиком стихов Клюева в руках жена георгиевского кавалера, и все так же звенел серебряным колокольчиком голос мальчика, уверенного, что каждому ребенку полагаются круглосуточный папа и иногда возникающая мама. У мамы были свои мама с папой, старенькие, больные, как было многократно объяснено Алёше. Жили они за городoм, в Димеевке, и дочь, конечно, ездила их проведывать.
Сначала это были поездки раз в неделю. Потом они участились. Потом это стали посещения с ночёвкой.
— Папа, а кто тебе ножку отрезал?
— Доктор. Спи, сынок.
— Он нехороший, он гадкий!
— Нет, мой мальчик, он хороший.
— Но ведь он тебе ножку отрезал!
— Спи, сыночек, спи…
Только один раз зашатался от подземного толчка дом Фоминых — когда произошло падение кумира. Герой мировой войны, боевой генерал, слуга царю и прочая — продал душу дъяволу, пошел в услужение к сатане. Алексей Брусилов, бывший Верховный Главнокомандующий, дожив до шестидесяти семи лет, вступил в Красную Армию.
И в этот же день исчезла Лида.
Ее отсутствие прошло вначале почти незамеченным. Пётр уже начал свыкаться с мыслью о том, что его жена предпочитает проводить время в родительском доме больше, чем в доме своего мужа. На второй день он начал отгонять от себя опасения того, что это — не просто задержка любящей дочери у любимых родителей. На третий день Пётр, оставив пятилетнего сына на попечение семьи с нижнего этажа, где была девочка — ровесница Алёшки, отправился, стуча палкой, через весь город к старикам Ростовцевым.
Услышав его сумрачное «где ваша дочь», они побледнели. Лида ушла от них, ушла домой, проведя с ними всего одну ночь. Обращаться за помощью было не к кому: в городе еще стреляли, и грабили, и убивали; делали это чуть ли не с одинаковым рвением и жители, и новая власть, и исчезновение
Лида ушла бесследно, беззвучно, без единого слова.
Во второй — и последний — раз в своей жизни, Пётр Фомин напился.
Владимир Дубоссарский, Сидней