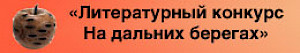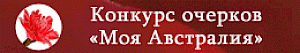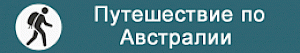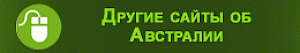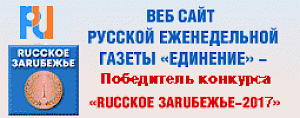Окрыляющее возбуждение после спектакля "Операмания" перевести в вербальные конструкции сложно. Эмоционально разогретые мысли плохо поддаются логике и систематизации, так как противоположное ощущается как одно и то же, а тождественное, как различное. И это часто естественный результат прикосновения к магии подлинного искусства.
Вроде бы анонсированная программа, да и сам жанр собрания шлягеров классики, не выходит из того, что принято называть поп-классикой, но вместить как-то не получается, что-то мешает. И это что-то относится не только к исключительному профессионализму всех исполнителей, так что предложенные публике действительные шедевры оперной классики никоим образом не были унижены. Даже, несмотря на сопутствующие каждому отдельному номеру весьма иронические комментарии самой пластики мизансцен, в которых эти номера были разыграны. Здесь безусловно была соблюдена мера, которую нынешний постмодернизм часто игнорирует даже в целостной интерпретации оперных шедевров. Достаточно вспомнить знаменитую Ла Скаловскую постановку Дона Джованни 2012 года, где герой был растерзан толпой преследователей подобно Каддафи, а по сцене расхаживала обнажённая дама. Да что там говорить,- Аделаида еще помнит постановку вагнеровской тетралогии, где давно усопшего гения, как бы с особым почти садистским наслаждением пытались унизить демонстративно убогой минималистской сценографией в пику его Байройту.
"Новая Опера" нашла парадоксальное сценографиическое решение – действо декорировано русской живописью конца 19 – первой половины 20вв. Здесь и Аrt Nouveau, представленный новомирцами, и русский авангард – Кандинский, Малевич, Филонов, и примитивисты, и ранние соцреалисты. И, конечно же в столь представительном собрании не могло не оказаться Коровина, Серова, Врубеля, Кустодиева, Васнецова, Борисова-Мусатова, Рериха и Билибина. Но и Мартирос Сарьян также украсил собрание.
Однако обращение к Его Величеству Парадоксу не только решило задачу роскошного оформления при минимальных затратах. Оно образовало дискурс, что автоматически выводит спектакль "Новой Оперы" за пределы поп-классики. Каким образом? В силу своей зеркальной природы, парадокс имеет свойство множиться. Тут же возникает и другой, - музыка западно-европейская, а живопись русская. Там есть несколько русских произведений, но тех, которые давно признаны западом, как неотчуждаемая часть собственного достояния, например, фрагменты из балетов Чайковского, или его наиболее “европейской” Иоланты, или самая расхожая прелюдия Рахманинова, мгновенно вызывающая ассоциацию с поп-классикой. То есть вещи, если и затрагивающие вопрос культурной идентификации, то только на поп-уровне.
И тут же парадокс третий – мизансценами мягко вышучивается потенциально вербализуемое содержание номеров, но живопись при этом не шутит. А если и пошутит невзначай, то шутки получаются странные, - или очень тяжелые, или относящиеся к чему-то такому, что как бы и присутствует физически, но как пушкинская чахоточная дева. Вот сомовские и головинские стилизации под екатерининский век. Это что, - шутка? Нет, скорее оплакивание ещё существующего, но уже обречённого милого мира перед большой катастрофой. Так на поминках вспоминают какие-то трогательные моменты из жизни покойного.
Или вот пошутил Лентулов по поводу храмов, а они и рухнули в одночасье. В спектакле эта шутка совпала со штраусовским трик-траком. В реальности разрушение церквей было тем ещё трик-траком. Этакий предельный Pussy Riot. При этом он даже и не шутил, а просто как-то светло и радостно увидел рушащиеся храмы. А уж какие шутники Малевич или Филонов! Это еще вопрос, - они провидцы, сподобившиеся заглянуть в будущее, или маги, формирующие грядущую реальность. Филоновскими лицами людей и животных (там тоже парадокс, - и те и другие одинаково соотносятся и с понятием морда и с понятием лицо) оформлена серенада Мефистофеля из Фауста Гуно. Тоже как предельное развитие тенденции, легкий намёк на которую содержится в тексте и мизансцене.
Впрочем, и шутки случаются. Очень забавным оказывается вердиевский герцог со своим La donna e mobile на фоне кустодиевских великолепных купеческих венер. Особенно, если учесть, что картины занимают все пространство выше человеческого роста, а герцог может быть соотнесён с изящно оттопыренным мизинчиком руки, держащей чашечку чая.
Taк разворачивается диалог между сценическим действом и живописью. А, коль скоро музыка исполняется вдохновенно и безупречно, то ей, в её бессмертной сущности, как бы и нет особого дела до невинных шалостей пластической интерпретации каких-то сюиминутных смыслов, вкладываемых в неё здесь и сейчас. Тем более это относится к живописи. Она здесь не более чем бескрайнее и бездонное небо, доминирующее над сценой. Достаточно индифферентное, но показывающее движением своих облаков или туч в багряных сполохах заката и восхода какие-то знаки-символы.
О чем же тогда диалог и кого, и с кем? Музыке и живописи дискутировать не о чем. Здесь и сейчас каждая из них сама по себе, а за этими пределами, они одно и то же. О чем убедительно свидетельствуют парадоксальный консонанс знаменитой арии Cаsta Diva из Нормы и врубелевского Демона, или оркестровых и оперных фрагментов из Моцарта и картин Кандинского, с маленьким уточнением, что консонанс возникает не с картиной, как целое, а с движением камеры по многократно увеличенным деталям, благодаря которому можно проникнуть взглядом во внутренний космос картины.
Тогда диалог возникает как будто бы между духовными началами, на которых зиждятся традиции России и Запада. Но такой цели лучше бы соответствовала какая-нибудь совместная постановка, для которой была бы необходима некоторая взаимная заинтересованность едва ли возможная при нынешнем состоянии взаимоотношений. Премьера Операмании состоялась в начале марта в Москве, и она возникла как внутренний продукт, конечно, с обоснованным прицелом на мировую востребованность в силу беспроигрышного выбора материала и высокого профессионализма коллектива, помноженного на его творческую одарённость.
Так не имеем ли мы дело с еще одним парадоксом? Не происходит ли этот диалог между неким российским внутренним духовным Западом и российской же внутренней духовной Россией? Этот диалог никогда не был успешен, так как тоже полон парадоксов. Вот один из них, самый, пожалуй, яркий. Попсовый, гламурный «внутренний Запад», манифестирующий себя как единственный легитимный выразитель идеи Запада и ищущий его поддержки в ниспровержении российской власти вызывает у реального Запада невыразимое отвращение своими куршавельскими вакханалиями, своей редкостно низкопробной, кичливой попсой.
А для Запада все эти медийные персоналии, не более чем концентрированное собрание филоновских мордо-лиц. И похоже в них окончательно разочаровались. Иначе не приступили бы к реквизициям их оффшорных счетов. С другой стороны реальный Запад оказывается всё менее притягательным для гламурного внутреннего Запада. Сокращаются возможности самовыражения. Ну, можно одеться у Юдашкина, вставить себе куда-нибудь перо, - это, пожалуйста. Но вот так, чтобы широко, по-российски – обозвать быдлом, анчоусом, съездить по рылу, ну не проходит такое даже уже в Камбодже.
И другой парадокс, не самый яркий, но самый, наверное, важный. Диалога, похоже нет, и сама его возможность проблематична. Стороны не могут ни понять друг друга, ни даже услышать. Просто идут два накладывающихся один на другой монолога. Там могут случаться и совпадения и даже согласие, но идентификация происходит по несогласию и отторжению. Особенно интересно, что такое часто случается и в одной и той же голове. В ситуации налаженной и устоявшейся жизни общества это не замечается. Мы живём в мире с миром и с собой. Но когда в обществе что-то не так, то считавшееся схожим проявляет различия, а различное - сходство. Тогда приходится выбирать и нередко принудительно. А принудительность нарастает по мере усугубления ситуации. Одного несёт, или несут на Болотную, другого на Поклонную, третьего то туда, то сюда, в зависимости от того, какая сила преобладает в ближайшем окружении.
Причем здесь "Операмания"? А притом, что за пределами гламурной и скинхедоидной накипи есть масса людей генетически наделённых этой двойственностью. Она, в самом деле, в нашем культурно-генетическом коде, предполагающем, согласно Фёдору Михайловичу, всемирную отзывчивость русского человека. И без неё не была бы создана великая империя. Эта отзывчивость в свою очередь порождает парадоксы. Так русскими становятся не только по крови, но и по выбору души, хотя отказа от другой идентичности при этом не требуется. Но перестать быть русским невозможно, даже при очень больших стараниях. Так самый последний из смердяковых первым безошибочно опознаётся как русский в иной этнической и культурной среде.
Обращаясь к этой двойственности, "Операмания" налаживает диалог. Сначала внутри нас самих, и здесь мы не ошибёмся в своей идентичности. Филонов с Малевичем ткнут нас в то, что случается при отказе от диалога, а Беллини, и Моцарт напомнят о том, чем мы должны являться по замыслу Вседержителя. Обретя гармонию внутри себя, мы сможем с детской непосредственностью радоваться мизансцене, в которой Царица Ночи гипнотизирует своим голосом свою собачку, а может быть кошечку, а может быть, служанку, но, главное тому, что всё пластическое совершенство этой мизансцены служит единственной цели, - выразить восхищение талантом певицы, силой её голоса и способностью брать самые высокие ноты, даже те, которые за пределами человеческого слуха. И это радует нас, потому что и мы тоже очарованы.
И ещё мы знаем, что захватывающий поток этого действа столь чарующе искромётен также и потому, что в каждом его участнике от продюсера до фотографа тоже есть эта двойственность, которую правильнее назвать всемирной отзывчивостью. И то, что творческая сила и уверенность этого потока питается не только высоким профессионализмом каждого исполнителя, выпестованным жесточайшей конкурентной средой, но и тем, что пространство действа одомашнивается, и в то же время освящается для каждого из них присутствием этих, многим знакомым с детства, картин.
Действо, развиваясь как крещендо, завершается финалом штраусовской «Летучей мыши» в декорациях петергофских интерьеров и экстерьеров Бенуа. Для публики конец спектакля, несмотря на очевидный финальный характер последних номеров, где участвует вся труппа, оказывается неожиданным. И едва ли не впервые в истории Adelaide Festival Theatre, она встаёт, чтобы выразить артистам особую признательность.
Это был несомненно триумф культуры новой России и состоящего из 60 человек коллектива. Здесь 10 вокалистов, каждый из которых мог бы украсить любую сцену. Все они молоды, красивы и многосторонне талантливы. Каждый и каждая из них проявили себя бесподобной пластикой и даже мимикой в мизансценах (некоторые из них были настоящими пантомимами), не говоря уже о вокале, в котором все они высокие мастера. Оркестр «Новой Оперы» давно завоевал признание и в России, и за её пределами, а ассоциированная с ней труппа Russian Imperial Ballet, представленная здесь четырьмя солистами, хорошо знакома и австралийцам. Ну, может быть с балетом, правда, скорее для такого специфического взгляда некоторых русских австралийцев, кое- что оказалось упущенным. Сен-Сансовский лебедь умирал в то время, когда лебеди рыловские возвращались после зимовки на родной русский север. И у многих не нашлось сил оторвать взгляд от этих лебедей, от этого неба, от плывущих в нём облаков, от сурового синего студёного моря, от завораживающего перелива красок картины. Дизайнер по свету «Новой Оперы» такой же волшебник, как и остальные участники этого действа, но здесь он затронул другие более сокровенные струны.
Всегда отзывчивая аделаидская публика почувствовала эту мощь, идущую от пространств России и пронизывающую любые её творческие проявления. В музыке для них прозвучала убедительная русская интерпретация европейских шедевров, а в живописи и графике русская интерпретация соответствующих европейских тенденций, но с той же широтой и мощью. Какая-то часть публики это осознала, какая-то прочувствовала, а для кого-то воздействие прошло на уровне 25-го кадра, в котором вмещается и общий аршин, как не надёжный измерительный прибор, и внятность галльского смысла вкупе с германским гением, и место среди нечуждых гробов.
Публика покинула зал с чувством незабываемого праздника и надеждой на его повторение. Но состоялся ли диалог? Однозначного ответа нет. Скорее это предварительное действо. Диалог цивилизаций будет тогда, когда успешно завершится диалог внутренний, и смердяков займёт место на положенном ему шестке.