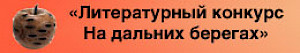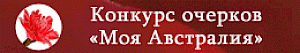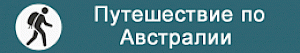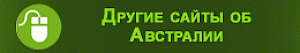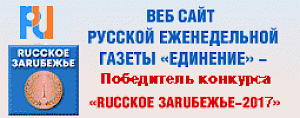Вообще-то писать о своей жизни больше подходит людям, широко известным, достигшим каких-то больших успехов в чём-либо. Тогда многим читателям, возможно, было бы интересно узнать, как у такого человека складывался путь к успеху, какие преграды ему пришлось преодолевать.
Поэтому мне и не приходила в голову такая нескромная мысль. Лишь однажды, в середине 1990-х, мне пришлось сделать что-то подобное, когда мои соученики по харбинской школе захотели составить альманах, посвящённый 40-летию окончания школы и который мы назвали «Оставайтесь всегда молодыми!». Я тогда написал две или три страницы о своей жизни, но, как можно коротко, и только о том, что, на мой взгляд, могло быть интересно моим бывшим однокашникам. В конце моего рассказа я тогда написал следующие строки:
«Наверное, будь мы не в Харбине, а где-нибудь, скажем, в Рязани или в Омске, наша судьба была бы иной, — проще и более предсказуемой. Вот как-то рассказывал своему сослуживцу, австралийцу лет тридцати пяти или сорока, о житье-бытье в Харбине, об японской оккупации, о событиях 1945 года, о „палудинах“, о китайской и корейской гражданских войнах, громыхавших совсем близко от нас, — так он, этот австралиец, спокойно, как по расписанию, проживший свои 35 или 40 лет, хоть и посмотревший мир из окон туристических автобусов, — он сказал мне: „ты знаешь, я тебе завидую — столько интересного было у вас или рядом с вами!“
И вот сейчас, читая эти строки и вспоминая разные случаи в своей жизни, я подумал, что, конечно, рассказывать только о себе, может быть неинтересно широкой публике, а поэтому свой рассказ я обращаю прежде всего своим детям, внукам и другим родственникам, однако допускаю, если это всё будет сказано на фоне каких-то значительных событий, то это вполне даже может заинтересовать других читателей. Поэтому, в этом рассказе, я буду говорить не столько о себе, сколько о событиях и о времени, в котором мы тогда жили.
И ещё одно обстоятельство побуждает меня взяться за воспоминания — на склоне лет я буду определённо что-то забывать из прошлого, что-то, может быть, интересное и важное. Поэтому, пока это не случилось, хочу сохранить на бумаге некоторые свои воспоминания. Итак, начнём.
Пекин, Тяньцзинь, Тонку
Вспоминаю один свой недавний разговор с приятелем. В нём был приблизительно такой диалог:
— Я родился в том месте и тогда, когда началась Вторая мировая война…
— В сентябре 1939 года в Польше?
— Нет, в Китае, и на два года раньше.
— Как так?!
А вот так. Начну с того, что я родился в городе Пекине. На первый взгляд, может быть непонятно, почему мои родители, всегда жившие в Харбине, вдруг оказались там. А причина была в том, что в Харбине было трудно найти работу, позволявшую содержать семью. А в Пекине уже долгое время жила сестра моего отца Клавдия со своим американским мужем Артуром и она посоветовала отцу переехать в Пекин, где было легче найти приличную работу.
В общем, как бы то ни было, а в Пекине в июле 1937 года я появился на свет. Это время и место мне долгое время не казалось связанным с какими-то мировыми событиями. Но, вот пару лет назад я наткнулся в энциклопедии на заметку о том, как началась японо-китайская война, длившаяся долгих 8 лет вплоть до сентября 1945 года и унёсшая 20 миллионов жизней только китайцев и к которой постепенно присоединялось всё больше и больше участников. А началась она 7 июля 1937 года на окраине Пекина, когда японцы напали на китайские войска на мосту Луго-цяо, который европейцы ещё называли „Марко Поло мост“.
Эту дату (7/07/1937) многие считают настоящей датой начала Второй мировой Войны (в отличие от распространённого мнения, что эта война началась 1 сентября 1939 года, когда нацистская Германия напала на Польшу — тогда это было лишь началом европейской, хотя и более интенсивной и разрушительной части Второй мировой войны) .
А в Пекине китайские войска не смогли долго сопротивляться и начали отступать. Весь июль, вплоть до начала августа 1937 года, японцы постепенно, район за районом, захватывали Пекин. Поэтому вполне возможно, что, когда японские войска занимали тот район Пекина, где находился, так называемый, Рокфеллеровский госпиталь, в котором 22 июля 1937 года я появился на свет Божий. Надо сказать, это было не особенно удачное время и место рождения, поэтому мои родители, вероятно, не захотели жить в оккупированном японцами городе и быстро перебрались в близлежащий город Тяньцзин, который был тогда под международной (фактически, англо-французской) администрацией, а потому недоступен для японских войск.
В Тяньцзине и в прилегающем к нему порту Тонку мы прожили почти 5 лет. Отец мой Владимир Степанович Мезин устроился работать в английскую пароходную компанию Butterfield & Swires. Его работа была, в числе других русских мужчин, охранять морские суда компании от нападений пиратов, которыми тогда кишели прибрежные воды Китая.
Так бы, неизвестно как долго, мы бы и жили там, но после декабря 1941 года, когда Япония стала воевать не только с Китаем, но и с Америкой, к которой присоединилась Англия, а также некоторые другие страны, и у нас началось тревожное время. Развязка наступила в июле (опять в июле!) 1942 года, когда японские войска (опять они!) неожиданно появились в порту Тонку, где мы жили, и были немало озадачены, увидев там сравнительно большую группу молодых русских мужчин, да ещё, к тому же, вооружённых и с семьями. Не зная, что делать с ними, японцы арестовали мужчин и выслали их куда-то в Шанхай, а нам с матерью приказали в течение 24 часов убираться из этого места, и мы отправились в Харбин. Я плохо помню то время, но запомнил только то, что на мой день рождения, когда мне исполнилось 5 лет, мы ехали в поезде по дороге в Харбин. Значит это было в июле 1942 года.
Харбинское детство
Итак, где-то в середине 20-х чисел июля 1942 года мы с матерью приехали в Харбин.
(далее я опять цитирую из альманаха)
" … в Харбин, где у мамы были родители, а, значит, и крыша над головой. Дед мой, дворянин и юрист, окончивший Московский университет, был послан в Харбин по службе в самом начале века. Был он присяжным поверенным, судьёй („Член Окружнаго Пограничнаго Суда В. Б. Разумовский“ — было написано под его портретом). В 1913 году, когда Россия праздновала 300-летие династии Романовых, он получил свой последний чин Действительного статского советника, что являлось равнозначным генеральскому чину. Кстати, судьи на царской службе и внешне были похожи на военных: носили мундиры, погоны, шпаги, ордена. Помню, потом на похоронах деда в 1944 году эти атрибуты производили эффект на встречных японских офицеров — они отдавали честь даже не своим шпагам и медалям! После 1917 года русские судьи в Харбине оказались не у дел, и дед поступил на службу юристом на КВЖД, а, когда вышел на пенсию, купил для своей большой семьи тоже большой дом с огромным садом на тихой, зелёной, похожей на деревню, окраине Харбина — Гондатьевке. Вот этот дом и стал моим единственным домом в Харбине».
У деда и бабушки Лидии Николаевны Разумовской была большая даже по дореволюционным меркам семья: трое сыновей и шестеро дочерей. К сороковым годам часть детей разъехались по разным городам и странам, а часть оставалась в Харбине. И вот теперь одна из дочерей, моя мама, вернулась в родное гнездо.
Я мало помню свои первые месяцы в этом городе. Думаю, для меня всё было вполне неплохо. А вот для моей мамы, уверен, всё было далеко не просто. Уже много лет спустя, сопоставляя некоторые даты и факты, я представил, что она должна была тогда пережить, лишившись в одночасье своего мужа-кормильца, которого японцы увезли неизвестно куда. А самой ей на последнем месяце беременности и с малолетним сыном пришлось в спешке организовывать переезд в Харбин. Думаю, можно было потерять голову от отчаяния. Ещё мне хочется выразить большую признательность и благодарность моим деду, бабушке и всем родным в Харбине, которые по родственному радушно встретили нас. Ведь им пришлось чем-то поделиться с нами, потесниться, предоставив комнату для нас троих — «троих», потому что через всего лишь пару недель после приезда мама родила дочь — мою сестру Лиду.
А отца я больше не видел. Все попытки получить разрешение от властей на его приезд в Харбин из Шанхая кончались ничем. Сейчас уже верится с трудом, что для этого нужны были и виза и целая куча разных препятствий, таких как требование нам предоставить доказательство, что отец уже имеет гарантированное место работы в Харбине и место жительства, и не какую-то комнату, а полноценную квартиру. Для мамы тогда это было просто невозможно сделать.
А действительная причина была в том, что Япония хотела после своей военной победы сделать Маньчжурию своей провинцией и заселить её японцами. Она боялась наплыва в Маньчжурию китайцев и поэтому старалась никого не пускать в Маньчжурию из Китая.
Так и тянулось время до поражения Японии в 1945 году. Казалось, после этого всё должно было измениться к лучшему, но и тут опять Китай и Маньчжурия отгородились стеной друг от друга. Харбин и Маньчжурия были оккупированы советскими войсками, а остальной Китай — американскими. Через некоторое время советские войска ушли, передав власть китайским коммунистам Мао-Цзе-Дуна, а в остальном Китае власть после американцев перешла к гоминьдановцам Чан-Кай-Ши. И коммунисты и гоминьдановцы, были союзниками во время войны с Японией. В общекитайских вооружённых силах 8-я армия была полностью коммунистической (солдат этой армии харбинцы долго называли «палудинами» — от китайского слова «па-лу», означающего «8-я армия»). Теперь же, в 1946 году они были антагонистами и в Китае вспыхнула гражданская война, закончившаяся в 1949 году победой коммунистов.
Пока шла война, мы не имели никакой связи с отцом. Но и после того, как палудины, т. е. Народно-Освободительная армия, заняла Шанхай, мы ничего не смогли узнать о его судьбе. Известно, что там было очень неспокойно, в то время и много русских людей уехали из Шанхая. Одни по морю в СССР, другие через Филиппины в разные другие страны. Позже, уже приехав в Австралию, моя сестра пыталась разыскать отца через Международный Красный Крест, но безрезультатно. Ещё было такое сообщение. Один человек, который жил в Шанхае в то же время, что и отец, сказал сестре, что он слышал, якобы наш отец был на пароходе, который шёл из Шанхая в Гонгконг и подорвался на мине. Что было дальше — он не знает.
Однако, я забежал немного вперёд. Вернёмся в 1942 год, когда мы только что приехали в Харбин. Моя память сохранила далеко не всё, что происходило в тот период времени. Помню, как меня и мою двоюродную сестру Леру определили в детский сад недалеко от нашего дома. Этот сад держала женщина среднего возраста, которую все звали «тичер» (от англ. «teacher»). Ей помогала сестра, которую мы звали Зоичка (а, может, Зоинька), которая хлопотала на кухне, сажала нас на горшок и т. д. Насколько помню, тичер неплохо с нами занималась; мы пели песни, учили стихи, бегали наперегонки. Интересно, что в свой первый день в этом детском саде, мне надо было принести свой стул и чашку и я помню, как нёс свой стул целый квартал по улице. К счастью, он не был тяжёлым. Ещё помню, что все завтраки, принесённые из дому, мы должны были отдавать Зоичке и она делила каждый на столько частей, сколько было ребят в тот день и распределяла по всем нашим тарелкам, так что мы все получали совершенно одинаковые завтраки. К концу года тичер поставила с нами спектакль по сказке Андерсена «Дюймовочка». Я получил роль жабы. Мне приделали какие-то зелёные опахала и что-то вроде лягушачьей маски, и я должен был со стороны сада залезть на маленькую лесенку, приставленную к открытому окну и по команде прокричать что-то. Однако, в самый нужный момент я соскользнул с лестницы и всё испортил. Это была моя первая и последняя актёрская роль. Лицедея из меня не получилось.
Лицей — моя первая школа.
К концу лета 1944 года мне сказали, что я уже большой мальчик и мне пора поступать в школу. Определили меня в Лицей Св. Николая, который был очень популярен у харбинцев. Лицеисты отличались хорошей дисциплиной и радовали глаз своим аккуратным подтянутым видом. Находился лицей на Старохарбинском шоссе недалеко от Церковной улицы. Он был создан в 1929 году миссионерами католиками-униатами и содержался с помощью дотаций из Ватикана.
(Униатская церковь была создана в ХVIII или ХIХ веке польскими и австрийскими католиками в западных областях Украины и Белоруссии, в которых православных жителей, не желавших переходить в католичество, соблазнили униатством — сохранением внешней обрядности православной церкви при условии общего подчинения Ватикану).
В лицее было три приготовительных класса — младший, средний и старший, и восемь основных классов. Ученики были или «приходящие» или «живущие». Приходящие, в отличие от живущих, жили дома и приходили в лицей только на уроки. Я был в числе таких приходящих. Педагоги были, в основном, местные русские харбинцы, а директор и преподаватели Закона Божьего — несколько приезжих монахов-униатов. Несмотря на их присутствие и то, что в лицее была своя церковь, на некоторые большие православные праздники и великопостное говение нас строем водили два или три километра по Старохарбинскому шоссе в православный Св. Николаевский собор.
Был ли лицей успешен в деле привлечения православных мальчишек к католицизму? Не знаю. С младшими учениками — определённо, нет. Со старшими — наверное, были и успехи. Я знаю нескольких бывших лицеистов, ставших священиками-униатами и как-то встречал одного такого даже ставшего униатским епископом.
Проучился я в лицее два года, надо признать, с переменным успехом. В свой первый год в младшем приготовительном классе у меня, впрочем также, как и в самом Лицее, всё было нормально, я очень старался и мне всё было понятно, что от меня требовалось. В следующем среднем приготовительном классе в сентябре 1945 года всё изменилось. Начался учебный год почти одновременно с приходом в Харбин Красной Армии, прогнавшей японцев. Лицей лишился финансовой подпитки из Ватикана и это, наверное, сказалось на качестве всей деятельности этого учебного заведения. Но не только лицей — весь город бурлил и резко менялся. Учиться, делать дома уроки и быть сконцентрированным на учёбе было очень трудно. И не только нам ученикам, но, мне казалось, и учителям. Поэтому, этот год в среднем приготовительном классе лицея был для меня, фактически, потерянным временем и, неудивительно, что в следующем 1946 году, перейдя в городскую 2 Полную среднюю школу, меня определили опять во второй класс.

Харбин под японцами.
А каков был Харбин в это время? Разумеется, я по малости лет не мог видеть и знать многое, но мне всегда было интересно слушать, что взрослые люди говорили о ситуации в городе и моё личное детское впечатление было таким, что становилось всё хуже и хуже. Японцы стали воистину вездесущими. Помню, как японки в своих цветастых кимоно постоянно проходили по нашей Татьянинской улице из своего посёлка в «только для японцев» кооператив на другом конце улицы запасаться продуктами. И их деревянные колодки (чикотабе) весело постукивали по тротуару. А японские военные отряды также постоянно маршировали по улице. Вообще, русские и китайские харбинцы с каждым днём всё больше и больше ощущали давление со стороны японских властей.
Хочу упомянуть навскидку лишь о некоторых проявлениях такого давления
1. Начнём с самого лёгкого требования японцев. — Нельзя было больше называть японцев японцами — они стали теперь ниппонцами и их страна стала не Япония, а Ниппон. Наверное, это были названия на японский лад. Как, если бы немцы требовали называть их страну не Германией, а Дойчлэнд, а англичане — Ингланд.
2. Русские эмигранты были обязаны всегда и везде носить на груди специальный значок.
3. Русским школьникам в государственных школах надо было начинать школьный день с поклонов в сторону японского микадо.
4. Всё больше русских юношей заставляли вступать в военизированные отряды, которыми командовали японские офицеры.
5. Все горожане были разделены на группы, которые задумывались, как группы взаимопомощи при пожарах, бомбёжках и т. д. Каждый дом должен был иметь под рукой на специальных стендах целый набор нужных вещей: багор, верёвки, ведро и ещё что-то. Время от времени устраивались тренировки, на которых изображали тушение пожара. В каждом дворе надо было вырыть окоп, метра два в глубину и в длину, и по особому сигналу тревоги все должны были прятаться в этих окопах, в которых часто стояла вода.
6. Все частные дома должны были иметь «Домовые книги», в которые требовалось записывать все значимые события, случающиеся в этом доме. Особенно регистрировать всех не постоянных жильцов, кто останавливался там даже на короткое время.
7 Пропагандировали переселение русских из Харбина в отдалённый район Тооген.
8. В последние годы войны японцы распорядились, чтобы каждый двор выращивал какое-то количество рицинусов — кустов касторового дерева. Эти деревца были полтора или два метра высоты, плоды на них были в форме шариков со многими шипами, напоминавшие по виду морские мины или на грозу нынешнего времени — коронавирус. Зачем им это было нужно? Говорили, что японцы, потеряв к концу войны многие нефтеносные районы южных морей, терпели нужду в нефтепродуктах и придумали использовать касторовое масло для смазки разных механизмов.
9. Рис могут есть только японцы.
10. И, конечно, верхом святотатства было требование японцев поместить их богиню Аматерасу в наш православный собор.
И ещё одно из «наследия» японцев стало известным уже после их поражения. Это так называемый Отряд № 731 японской Квантунской армии находившийся в посёлке Пинфан под Харбином. Там был секретный центр разработки и испытания бактериологического оружия на живых подопытных людях, китайцах, русских и других национальнотей, которых и за людей не считали, и в своих отчётах даже называли «брёвнами». Этих несчастных заражали смертельными болезнями: чумой, холерой, тифом, сибирской язвой, и т. д., а потом часто без всякого наркоза вскрывали и вытаскивали внутренние органы человека, чтобы видеть, как разные стадии болезни действуют на эти органы. И ещё много разных подобных «экспериментов» проводилось в этом месте. Не будет преувеличением сказать, что широко известные ужасы немецких концентрационных лагерей — Освенцима, Дахау, Бухенвальда, — меркнут, по сравнению с Пинфаном. Из Освенцима и Дахау люди все же выходили иногда. А вот из Пинфана — никто и никогда.
Я не буду долго говорить обо всём этом, и, если кто захочет узнать о Пинфане подробнее, то может прочитать книгу японского писателя С. Моримура «Кухня дьявола» http://militera.lib.ru/research/morimura/index.html или просмотреть видеофильм Елены Масюк «Конвейер смерти» https://youtu.be/ueq0PYLlFwE
А в завершение рассказа добавлю, что, к сожалению, далеко не все создатели и организаторы этой «Кухни дьявола» понесли заслуженное наказание после войны. Так, руководитель этого отряда генерал Исии Сиро остался на свободе, когда он передал американцам задокументированные результаты экпериментов Отряда № 731 в обмен на свою безнаказанность.
Поэтому, рассказав всё это, не стоит удивляться, что большинство русских харбинцев относились к японским властям резко отрицательно. Думаю, японцы отвечали взаимностью. Вот, что говорил глава японской жандармерии в Харбине полковник Асаока:
«…Харбин — город многонациональный, и в нём живёт много десятков тысяч русских белоэмигрантов, они укрывают советских шпионов, и выявить их не так-то просто. Поэтому жандармерия учредила особый орган — Бюро по делам русских эмигрантов, — чтобы зарегистрировать всех до одного русских, живущих в Маньчжурии, и строго следить за ними. Но их так много, что просто мученье…».
И всё же японцам во многом не удалось изменить русский Харбин Наступил судьбоносный 1945 год. Завершалась война в Европе полной победой СССР и его союзников и японцы почувствовали себя менее уверенно…
Красная Армия в Харбине
И вот случилось. В августе 1945 года советская Красная Армия выполняя обещание, данное союзникам, и под общим командованием прославленного полководца маршала А.Василевского с трёх сторон перешла границу с Маньчжурией и в полной мере показала, какой грозной силой она стала за 4 года войны с гитлеровской Германией. Японская Квантунская армия, многие годы готовившаяся к этой войне, очень быстро поняла — сопротивляться бесполезно. Особенно это было ясно на западе Маньчжурии. Там японские генералы считали, что через горы Хингана невозможно провести крупные танковые соединения и тяжёлую артиллерию. Но войска Забайкальского фронта под командованием маршала Малиновского совершили, казалось, невозможное, правда, не без потерь. И, когда неожиданно для японцев с Хинганских гор спустились на маньчжурскую равнину все войска Забайкальского фронта и с тяжёлым вооружением, то японцы побежали. В то же время, в центре Маньчжурии против 2-го Дальневосточного фронта (командующий генерал Пуркаев) и, особенно, на востоке в районе г. Муданьцзяна против 1-го Дальневосточного фронта под командованием маршала К.Мерецкова сопротивление японцев было гораздо серьёзнее. Там вдоль всей границы с СССР японцы построили мощные оборонительные сооружения, большей частью подземные. Ходили слухи, что японцы привозили китайских рабочих рыть целую сеть подземных укреплений, складов, ходов сообщения, а по окончании работ этих рабочих просто расстреливали, чтобы никто из них не смог раскрыть секреты обороны.
А в Харбине, к счастью, военных действий не было. В период какого-то междувластия, когда японцы уже фактически устранились, а Красная Армия ещё не подошла, местные молодые русские харбинцы создали Штаб обороны Харбина (ШОХ) и организовали охрану важных объектов, особенно таких, как железнодорожный мост через Сунгари и этим очень помогли подходившей к городу Красной Армии.
А первые советские воины появились в Харбине за несколько дней до прихода основных сил, когда их воздушный десант вдруг высадился на харбинском аэродроме и захватил его. Такую тактику в то время советские войска применяли много раз. Например, в Мукдене на аэродроме неожиданно высадился советский десант и захватил несколько готовых улететь в Японию самолётов со многими японскими и маньчжурскими генералами и сановниками на борту. Одним из них оказался даже сам император Маньчжуго Генри Пу-и.
(Историческая справка)
Император Маньчжуго Генри Пу-И объявлялся императором два раза. В первый раз он стал последним из Цинской династии императором Китая, но был свергнут ещё в детском возрасте в результате китайской революции 1911 года под руководством доктора Сун Ят-Сена и после этого мирно жил в г. Тяньцзине
Второй раз он стал императором, когда японские войска в 1931 году захватили Маньчжурию, создали там марионеточное государство Маньчжуго и во главе его поставили привезённого из Тяньцзина Пу-И, объявив его императором, и он почти безвылазно жил в древней столице маньчжуров — в городе Синьцзин (теперь г. Чаньчунь) под неусыпным надзором японцев, лишь изредка выезжая в другие города Маньчжурии на какие-то торжества.
И вот, когда в Харбин вошли советские регулярные войска, в этом русском, но совсем не советском городе, где жизнь и весь быт был, как в дореволюционной России, две большие группы русских людей, — русские харбинцы-эмигранты с одной стороны и советские воины — с другой,- в чём-то похожие и в то же время совсем разные, встретились и с острым любопытством старались узнать и понять друг друга.
Многие из них были «по разные стороны баррикады» когда-то, но теперь надеялись найти что-то объединяющее их. Встретились две России: одна большая Россия, только что прошедшая долгую и страшную войну и другая эмигрантская Россия, всю войну переживавшая за своих воюющих братьев и которая теперь надеялась быть полезной в работе по восстановлению родного Отечества
Думаю, встреча эта была уникальным и эмоционально насыщенным событием. Что касается харбинцев, они радостно (здесь я опять процитирую из моей предыдущей статьи) — «встречали солдат, как освободителей от японцев, как родных — приглашали в дома, старались сделать для них что-нибудь приятное, да и армейцы отвечали тем же.
Одним из моих самых ярких впечатлений того времени, навсегда врезавшихся в память, был парад Победы частей Красной Армии в Харбине 16 сентября 1945 года, (единственный парад Победы над Японией по распоряжению Сталина состоялся почему-то только в Харбине). Вернее запомнилось то, как харбинцы встречали маршировавших бойцов. Люди заполнили все тротуары улиц, по которым проходил парад. Казалось, вышло всё население города, празднично одетые и очень взволнованные. Так долго мечтали они увидеть русских солдат на улицах города, что теперь, когда это случилось, когда
воины проходили так близко, что можно было дотянуться до золотых офицерских погон (эти погоны, как в старой русской армии, больше всего произвели впечатление на многих харбинцев) — люди в каком-то стихийном порыве, едва сдерживая переполнявшие их эмоции, почти, как в трансе, выкрикивали что-то тёплое, приветливое, и цветы летели к ногам бойцов. Я, восьмилетний мальчишка, стоял с матерью в самой гуще ликующих людей и из-за своего малого роста больше видел лица стоявших вокруг нас харбинцев, чем проходивших солдат и для меня стало откровением видеть взрослых людей, плакавших от радости и при этом совсем не стеснявшихся окружающих.
В общем, между харбинцами и советскими армейцами установились вполне добрые доверительные отношения.
А затем в обозе боевой армии прибыл НКВД-СМЕРШ, и об этом мы сейчас будем говорить. Было ясно, что уже тогда кому-то не понравились сердечные отношения боевых солдат и офицеров с русскими харбинцами».
Конечно, никто из харбинцев не сомневался, что эти карательные органы (СМЕРШ — это сокращённое название «Смерть шпионам») должны бороться с тайными и явными врагами, и такие враги, конечно, были и среди харбинцев и никто бы не удивился, если бы их арестовали. Но, что в действительности случилось, я расскажу с помощью цитаты из той же моей ранней статьи:
«… смершевцы, так перестарались с арестами, что, казалось, ещё немного времени и всех харбинцев переселят в „гулаги“. Здесь, нисколько не стараясь оправдать смершевцев, я попрошу вас, читатель, войти в их положение: так много и долго в СССР твердилось, что Харбин — гнездо белогвардейцев и прочих антисоветчиков, и, если они арестуют только горстку действительно заслуживавших ареста — то ведь так и самим можно оказаться за колючей проволокой за нерадивость! И вот, чтобы выполнить некую норму арестов, соразмерную такой репутации Харбина, стали хватать многих совсем невиновных… Не знаю, сколько людей арестовали, вероятно много тысяч, — помню только, что очень много моих сверстников остались без отцов. Потом почти всех, схваченных тогда, реабилитировали после смерти Сталина, но, как можно возместить загубленные жизни, годы страданий, потерянное здоровье?»
Несмотря на это, полгода присутствия Красной Армии в Харбине было вполне радостным и положительным опытом, как для большинства харбинцев, так, думаю, и для армейцев. Особенно солдатам были рады мальчишки, для которых подержать в руках автомат, напялить на голову пилотку или фуражку было верхом счастья. Ещё в это время почти все мальчишки Харбина неожиданно стали «военными». Все или почти все вдруг разделились на почти равные группы: на моряков и на лётчиков, и ещё немного пацанов отдали предпочтение другим родам войск: танкистам, артиллеристам и другим родам, а один из наших гондатьевских ребят вызвал всеобщее возмущение, заявив, что он — партизан! Вот какой индивидуалист — захотел выделиться! И не думайте, что это разделение было просто так. Ребята временами серьёзно враждовали и устраивали стычки. И продолжалось это ещё года два.
После ухода Красной Армии.
Но вот в феврале 1946 года армия погрузилась в вагоны и отбыла домой. Харбин остался в тревожной неопределённости. Никто не знал, есть ли в городе какая-то власть. Это почувствовали и китайские хунхузы. Начались грабежи, особенно за городом. Харбинская молодёжь опять, как и полгода до этого, организовала отряды самообороны и охраны объектов. К сожалению, на этот раз не обошлось без потерь, когда студенческий отряд был вызван защищать кого-то от нападения хунхузов, пять студентов были убиты там в перестрелке. Как всегда в такое время, ходили разные слухи, говорили, что вот-вот в городе начнётся резня. Помню, почему-то на улицах появилось много гоминьдановских флагов — ожидалось, что следующая власть будет чанкайшистской. По слухам, этому не дал осуществиться Советский Союз, который не позволил гоминьдановцам высадить их армию в порту Дальнего, а тем временем китайская коммунистическая армия Мао Цзе Дуна, т. е. «ПА-ЛУ» — (8-я армия) — палудины, прибыли в Маньчжурию, получили фактически от СССР трофейное японское вооружение и беспрепятственно вошли в Харбин. Как ни странно, очень много китайцев в Харбине, возможно, распропагандированные гоминьдановцами, очень боялись палудинов и ждали, что они начнут грабить. Хорошо помню, как ожидая прихода палудинов, знакомые китайцы советовали нам всё держать на замке и усилить охрану.
Запомнилось, как я впервые увидел палудинов. Я стоял около кинотеатра «Ориант» в толпе ожидающих попасть на следующий сеанс фильма «Небесный тихоход», когда все вдруг повернулись и стали смотреть на противоположную сторону улицы, туда, где находился другой кинотеатр «Азия», а там гуськом, устало шли люди в мешковатой желто-зеленой военной форме, некоторые с огромными винтовками наперевес, другие — с не менее огромными револьверами в деревянной кобуре, прицепленными к поясу и спускавшиеся чуть ли не до колен. Они, не обращая внимания ни на кого, свернули в боковую улицу и исчезли из вида. Вот так начиналась история новой военной силы — Народно-Освободительной армии Китая (НОАК). И, конечно, никаких грабежей не было. Однако, вскоре все те китайцы, кто сотрудничал с японцами, кто как-то мешал новой власти, будут безжалостно подавлены. Многие из них пройдут унизительные процедуры, когда их наряжали в клоунские костюмы и колпаки и под звуки барабанов с толпой зевак водили по улицам, прежде, чем устроить «народный суд» и привести в исполнение решение «суда», часто — расстрел.
Китайская гражданская война
Я слышал такую историю. Когда в августе 1945 года советские войска заняли Маньчжурию, китайское центральное правительство Чан Кай Ши заключило с СССР соглашение, что Красная Армия уйдёт из Маньчжурии через полгода. И вот точно через полгода советская армия покинула Маньчжурию, как и договаривались, хотя гоминьдановское правительство и просило подождать до прихода их войск. Но СССР сказал, что договор есть договор и не их вина, что гоминьдановские войска чересчур медленно продвигаются, и их в северной Маньчжурии опередили палудины Мао Цзе Дуна, которые, получив доступ к японским военным складам и, таким образом вооружившись, заняли северную Маньчжурию, включая Харбин, и выстроили оборону против гоминьдановцев — своих недавних союзников в войне с японцами.
И началась гражданская война в Китае. Стоит отметить, что в её начале силы казались, и были, не равными. Весь огромный Китай, кроме сев. Маньчжурии, был под контролем Гоминьдана. И в Маньчжурии все крупные города южнее Харбина: Гирин, Чанчунь, Мукден (теперь Шеньян) — были уже под ними. Было тогда похоже, что гоминьдановцы выигрывают. В городе установилась какая-то напряжённая неопределённость, особенно после террористического акта — убийства одного из коммунистических главарей города Ли Чжао Лина. Были пышные похороны, в честь убитого назвали один из кинотеатров и ещё переименовали городской сад на Пристани, который стал парком Чжао Лина. Опять в ожидании воздушных налётов появились в городе окопы. Часто над Харбином кружили гоминьдановские двухфюзеляжные самолёты-разведчики (что-то вроде воздушных катамаранов), тогда завывала сирена и все должны были прятаться в окопах. Самолёты чувствовали себя в полной безопасности на большой высоте; иногда палудины постреливали в них из зениток, но снаряды разрывались чуть ли не на полпути к ним, а своих самолётов
новая власть ещё не имела тогда. Положение усугублялось тем, что в городе почти не было электричества, поскольку Харбин обычно получал электроэнергию от Гиринской гидроэлектростанции, а там стояли чанкайшисты.
Правда, в Харбине была и своя электростанция, но она давала электроэнергию лишь достаточную для работы трамваев и каких-то ещё немногих важных объектов. С наступлением темноты везде появлялись разные самодельные светильники. Никогда я более не видел такого разнообразия всяких коптилок! Самым лучшим осветительным прибором была карбидная лампа, в которую вкладывали карбид кальция и он при действии на него воды выделял ацетилен, который довольно ярко горел, когда его поджигали. Однако, эти лампы были не дёшевы. Помню, что в то время ученики старались делать домашние задания пока ещё не стемнело.
Вот так и жили мы приблизительно года два, а затем палудины достаточно окрепли (не без помощи северного соседа) и от обороны перешли в наступление и стали освобождать район за районом, и, когда забрали Гирин, то Харбин стал получать электричество и для освещения домов. Но ещё долго было строжайше запрещено включать электрические нагревательные приборы.
К осени 1949 года весь Китай уже был под коммунистами, а гоминьдановцы были вытеснены на остров Тайвань, где они пребывают и по сей день.
Чем ещё запомнились 2–3 года после ухода Советской армии? В жизни людей много чего не хватало тогда, но все спокойно и стойко ждали перемен к лучшему. Запомнилось, что в эти годы ребята, мои сверстники, часто находили разные боеприпасы, главным образом, японские винтовочные патроны, в самых разных местах, как будто кто-то ходил и разбрасывал их. Мы быстро приноровились использовать их так: пулю откручивали, а порох из гильзы высыпали и делали с ним, что хотели, а пустую гильзу бросали в печку или костёр и дико радовались, когда запал в гильзе звучно взрывался. Порох чаще всего шёл на заряд самодельных пистолетов, так называемых «самопалов». Это не что иное, как металлическая трубка с запаянным одним концом, которую приделывали к рукоятке; около запаянного конца сверлили маленькую дырку, по которой мог ударить боёк, сделанный из толстой проволоки. Порох засыпали в трубку-ствол, сверху вставляли пыж с пулькой. На дырку накладывали пистон и, когда боёк при помощи резинки ударял по пистону, искра от него попадала в порох и, к нашей вящей радости, происходил выстрел.
С порохом у меня связано ещё одно воспоминание. Как-то я с двумя своими приятелями нашли немного патронов. Мы высыпали порох из них и стали развлекаться тем, что всыпали разное количество пороха в длинную и узкую вазочку, бросали в неё зажженную спичку и наблюдали, на какую высоту выбросится пламя. И вот в один из таких моментов бросили на порох в вазочке зажженную спичку и… ничего не произошло. Тогда мой приятель Кока Т. взял вазочку и заглянул в неё. И, надо же, именно в этот момент пламя взвилось вверх прямо в лицо Коке. К счастью, сильного ожога лица не случилось, но ресницы и брови у приятеля исчезли. Он ещё долго ходил таким уродом и даже постепенно привык к насмешкам. Но бывали и более трагические случаи, когда кто-то даже лишался жизни, пробуя разрядить гранату, а иногда такое баловство кончалось тем, что у парня отрывало пальцы или руку, или что-то ещё. Помню одного такого. Анатолий Ч. что-то делал с гранатой и ему оторвало кисть руки. Однако, запомнился он по другой причине. Был он хитрым и ловким парнем и часто добивался своей цели не совсем праведным образом, а потому его не слишком любили и этим, наверное, можно объяснить, что с ним произошло. Этот Анатолий очень любил футбол и однажды команда, в которой он играл, получила право на штрафной одиннадцатиметровый удар (пенальти). Бить его вызвался Анатолий. Мяч поставили на специальную отметку на земле, Толя разбежался и, когда он бежал к мячу, кто-то из стоявших рядом ребят сделал ему подножку и он, запнувшись, упал и по инерции ещё некоторое время скользил на животе по земле, пока не дотронулся до мяча головой. Мяч тихо покатился к воротам… Потом ещё долго говорили, что нигде в мире, кроме Харбина, нет такого футболиста, который бьёт пенальти головой!
Ещё эти годы отметились чередой эпидемий. Несомненно, это было последствием, эдаким «поздним приветом» из Пинфана. Ведь, когда японцы при наступлении Красной Армии сворачивали работу в Отряде № 731, они выпустили на волю тысячи заражённых крыс, и они разбежались по окрестностям, а большое количество разных других заразных предметов были или закопаны в земле, или сброшены в реку Сунгари. И вот года три подряд Харбин подвергался эпидемиям: зимой — чумы, а летом — холеры. В это время все жители были обязаны вакцинироваться, и всегда и везде иметь при себе специальное удостоверение о сделанной вакцинации. Для проверки людей на улицах на наличие таких справок-удостоверений власти организовали китайчат 12–15 лет, их «вооружили» длинными остроконечными пиками, как признак власти, и за это их называли «пикачами». Эти пикачи (предтечи хунвейбинов 1960-х?) в группах по 4–5 человек с огромным, даже чрезмерным энтузиазмом показывали свою власть над прохожими и тех, у кого не оказывалось справки о вакцинации, они заставляли идти до ближайшего временного пункта вакцинации и делать прививку. Это было самое страшное, что могло произойти с человеком, потому что в этих пунктах, конечно, не было одноразовых шприцев и иголок, и, вообще, санитарные условия были не на высоте. Поэтому русские харбинцы боялись подцепить там какую-нибудь заразу и старались делать прививку у своих докторов или в больницах, а, выходя на улицу, больше всего боялись забыть это удостоверение о вакцинации.
Заканчивая писать на эту тему, хочу добавить вот что: сейчас во втором десятилетии двадцать первого века многие удивлялись, как быстро, по сравнению с другими странами, Китай справился с пандемией коронавируса Covid 19. А дело, кажется, в том, что китайцы во время эпидемий не дискутируют о том, является ли нарушением прав человека требование обязательной вакцинации или ношение защитных масок и тому подобных процедур, а просто исполняют предписания властей.
Что касается нашей общей ситуации в городе, то в 1946 году большинство русских харбинцев получили советское гражданство и Генеральное консульство СССР в Харбине негласно стало вершителем судеб русских харбинцев. Делалось это не прямо и прилюдно, а через созданный орган — Общество граждан СССР. Но, в общем, надо признать, всё было вполне неплохо организовано.
Школьные годы
Я уже писал о моей первой школе — Лицее Св. Николая и о том, что после двух лет там, я осенью 1946 года перешёл в государственную 2-ю Полную среднюю школу (2ПСШ). Вернее, моя мама меня перевела туда, потому что она стала работать делопроизводителем (т. е. заведующей канцелярией) в этой школе и поэтому могла лучше следить за моим прогрессом (или регрессом!), а также и потому, что дети служащих школы могли учиться там бесплатно. И, если кто подумает, что мне повезло в этом, то я так не думал. Все мои школьные годы, вплоть до последнего 10 класса, если я делал что-то не так, учителя таскали меня в канцелярию к матери и жаловались, жаловались…
Школа наша, которая вскоре стала называться 2 ССШ, т. е. 2-й Советской средней школой занимала довольно большую площадь. Это был квадрат, каждая сторона которого равнялась уличному кварталу улиц: Старохарбинского шоссе, Церковной, Приютской и Балканской улиц. До этого времени это был японский военный госпиталь. В нём был огромнейший зал и достаточно много классов, вероятно бывших палат госпиталя. Нам всем сразу понравилась эта просторная школа, особенно большой школьный двор, размером с футбольное поле. И, действительно, вскоре там были поставлены настоящие футбольные ворота и мы стали часто проводить игры — класс на класс.
Мой первый учебный год (осень 1946 — весна 1947) в этой школе я провёл во 2(б) классе. Условия для занятий, особенно в зимнее время, были очень непростыми. В школе, как и во всём городе, не было электричества, не работало центральное отопление и мы все зимой в классе сидели в шубах, а в центре класса стояла железная печка-буржуйка и труба из неё шла под потолком через полкласса и выходила в форточку окна. Ребята в этом классе подобрались очень резвые и не чурались разных шалостей. Например, мы додумались «курить» на переменах: вырывали страницу из тетради, сворачивали в трубочку, смачивали её водой, чтобы не горела, а просто дымила, поджигали в печке один конец трубочки и, на манер сигареты, вдыхали дым из неё, воображая, что мы — как взрослые дяди.
Вероятно, кое-что из этого стало известно моей маме и на следующий год она перевела меня в параллельный 3 (а) класс, где большинство учеников считались «паиньками». Однако, я там тоже изредка вспоминал старое и тогда наш классный наставник Николай Демьянович оставлял меня после уроков и проводил «воспитательную беседу». Кончалось всегда тем, что он спрашивал меня: «Ты веруешь в Бога?» и, получив утвердительный ответ, говорил, указывая на икону в углу класса (в тот год иконы ещё висели в классах): «Обещай перед Богом, что больше не будешь так делать!» Я, конечно, обещал и был благодарен ему за то, что он не таскал меня к маме по разным пустякам.
Свой следующий 4 класс я вспоминаю с удовольствием. В тот год я всегда шёл в школу с великой радостью и в этом была заслуга нашей классной наставницы Александры Викторовны Акимовой, несомненно, очень талантливого педагога. Она, казалось, могла подобрать ключик к каждому из своих учеников и как-то поощрять их на большие усилия и успехи.
Но вот, осенью 1949 года, в 5 классе спокойная размеренная жизнь школы стала постепенно меняться. В городе закрылись три школы, которые держали католики-униаты: мужской Лицей Св. Николая и два женских конвента — Св. Урсулы и Св. Франциски, и учившиеся в них были распределены по другим харбинским русским школам, в том числе и нашей 2ССШ. В начале даже появилась вторая вечерняя смена. Но в конце концов «всё вошло на круги своя» .
Однако, это всё были ещё цветочки, а ягодки нас ждали в следующем 6 классе. Неприятный сюрприз поджидал нас, когда мы проучились уже некоторое время и нам объявили: школу передают китайцам, и мы остаёмся у «разбитого корыта». Какое-то время мы ходили в вечернюю смену в другие школы города. Наш класс, например, был вынужден вечером ходить на другой конец города -на Пристань в 1ССШ. Положение немного улучшилось, когда для всей школы организовали учёбу несколько ближе, в Новом Городе в здании 3ССШ, но во вторую смену. Так мы благополучно доучились до конца учебного года.
Пятидесятые годы, как оказалось, были последними в жизни русского Харбина. Надо сказать, что в то время всем русским жителям Харбина стало ясно, что для них нет будущего в Китае, где новыми властями был провозглашён лозунг: «Китай — для китайцев». Что же нам, русским харбинцам, было делать? И, поскольку в СССР нас не пускали, то многие выхлопотали разрешения ехать жить в разные другие страны: Америку, Австралию, Бразилию и др. Наши родственники из Австралии звали нас к себе. Лично я был не против. Австралия казалась желанной и какой-то экзотической и заманчивой страной, возможно под влиянием некогда прочитанного романа Жюль Верна «Дети капитана Гранта», где были такие строки:
" … повторяю вам, клянусь вам, что этот край — самый любопытный на всем земном шаре! Его возникновение, природа, растения, животные, климат, его грядущее исчезновение — все это удивляло, удивляет и удивит всех учёных мира.
Представьте себе, друзья мои, материк, который, образовываясь, поднимался из морских волн не своей центральной частью, а краями, как какое-то гигантское кольцо; материк, в середине которого есть, быть может, наполовину испарившееся внутреннее море; где реки с каждым днем все больше и больше высыхают; где нет влаги ни в воздухе, ни в почве; где деревья ежегодно теряют не листья, а кору; где листья обращены к солнцу не поверхностью, а ребром и не дают тени; где растут огнестойкие леса; где каменные плиты тают от дождя; где деревья низкорослы, а травы гигантской вышины; где животные необычны; где у четвероногих имеются клювы, например у ехидны и утконоса, что заставило учёных выделить их в особый класс; где у прыгуна кенгуру лапы разной длины; где у овец свиные головы; где лисицы порхают с дерева на дерево; где лебеди чёрного цвета; где крысы вьют себе гнезда; где птичка-шалашник строит целые беседки для своих крылатых подруг; где вообще все птицы поражают разнообразием песен и способностей: одна подражает бою часов, другая — щелканью бича почтовой кареты, третья — точильщику, четвёртая отбивает секунды, точно маятник; есть такая, которая смеётся утром, на восходе солнца, и такая, которая плачет вечером, на закате. Самая причудливая, самая нелогичная страна из всех когда-либо существовавших! Земля парадоксальная, опровергающая законы природы! Ученый-ботаник Гримар имел полное основание сказать о ней: «Вот она, эта Австралия, какая-то пародия на мировые законы или, вернее сказать, вызов, брошенный в лицо остальному миру!»
Конечно, после этого перечисления особенностей Австралии никому не пришло в голову задать географу ещё какие-либо вопросы. Только майор спросил-таки своим неизменно спокойным голосом:
— И это все, Паганель?
— Нет, представьте, не все! — воскликнул с новым азартом учёный.
— Как, в Австралии есть что-нибудь ещё более удивительное? — спросила заинтригованная леди Элен.
— Да, её климат: он ещё необычнее, чем все, что в нем растёт и живёт.
— Как? — раздалось со всех сторон.
— Я не говорю уж о том, как богат воздух Австралии кислородом и беден азотом, не говорю об отсутствии влажных ветров вследствие того, что пассаты дуют параллельно побережью; и о том, что большинство болезней, начиная от тифа и кончая корью и разными хроническими болезнями, здесь неизвестны…
— Однако это немалое преимущество, — заметил Гленарван.
— Без сомнения, но, повторяю, я не это имею в виду, — ответил Паганель. — Здесь климат обладает свойством… прямо — таки неправдоподобным…
— Каким же? — спросил Джон Манглс.
— Вы ни за что мне не поверите…
— Поверим! — воскликнули заинтересованные слушатели.
— Так вот, он… благотворно действует на нравственность!
— На нравственность?
— Да, — с убеждением ответил учёный. — Он благотворно действует на нравственность. В Австралии металлы не ржавеют на воздухе, то же происходит и с людьми. Сухой и чистый воздух здесь быстро все выбеливает: и белье и души. В Англии подметили это свойство здешнего климата, почему и решили ссылать сюда людей для исправления. Преступники, переселённые в эту живительную, оздоровляющую атмосферу, через несколько лет духовно перерождаются. Это известно филантропам. В Австралии все люди делаются лучше. И даже австралийские лошади и рогатый скот поразительно послушны» и т. д.
Конечно, я прекрасно понимал, что это всё было фантастическим преувеличением, но всё же…
В 1951 году произошло одно событие, которое коснулось только нас, нашего дома. Как я уже писал, многие харбинцы к тому времени были готовы выехать в разные страны. И у нас, у всех моих родственников, тоже уже несколько лет было разрешение на приезд в Австралию. Проблема была в том, что разрешение ехать туда давали эти страны, а выехать из Харбина без согласия советского Генерального консульств было нельзя, а оно такое разрешение давало в очень редких случаях. Один из таких случаев произошёл с моими родными. В тот год по настойчивым просьбам моей тёти Маруси, которая жила в Австралии, отпустить к ней её мать, неожиданно моей бабушке было позволено воссоединиться со своей дочерью, однако, ввиду её преклонного возраста сопровождать её разрешили её дочери Александре с мужем и маленькой дочкой, и они в один погожий день уехали.
А мы остались и ещё долго не могли привыкнуть жить без них, и, особенно, без бабушки. Ведь все эти годы она вела общее домашнее хозяйство и была непререкаемым авторитетом. И вдруг без неё… И мне было особенно неуютно без бабушки. Она с самых моих первых дней в Харбине была, если можно так выразиться, другом — всегда терпеливо выслушивала всякие мои несусветные фантазии, часто брала меня с собой на службы в церковь Казанско-Богородицкого монастыря, который находился в 15 минутах ходьбы от нашего дома. Не раз зимой она, пощупав мою ватную тужурку, говорила: «Что же она не может тепло одеть тебя!» «Она» — это её дочь, а моя мама. Мне совсем не было холодно, но я молчал — мне было приятно, что бабушка меня жалеет. Почему-то вспомнился забавный случай в монастыре. Мы отстояли литургию там, вышли наружу; бабушка задержалась, разговаривая с кем-то, а я зашёл снова в церковь и с удивлением увидел, как монахи подметают пол там. А удивило то, что пол был почти весь покрыт слоем какого-то мусора. Я не удержался и спросил монаха, откуда столько сора, ведь я был до этого в церкви и никакого мусора там не видел. А монах отвечает: «Откуда? — Да это старушки намолили!» Оказалось, что и монахам не чуждо чувство юмора, а что было там, так это монахи перед тем, как подметать пол, разбрасывали по нему влажные древесные опилки, а затем всё заметали в кучу и убирали её. Таким образом, на полу не оставалось ни пылинки.
Мне кажется, что бабушка не могла быть счастлива в Австралии. Она не встретилась со своей дочерью, к которой ехала и которая умерла незадолго до её приезда. И она, конечно, не могла привыкнуть на старости лет к новой и чужой жизни в чужой стране.
В то время Австралия была очень малонаселённой страной и власти понимали, что надо срочно привлекать переселенцев. Тогда был пущен клич: «Populate or perish» — т. е. «Населяй или исчезнешь», и в страну прибыло много людей из Европы, в которой тогда ещё продолжалась разруха после страшной войны. Это были люди, главным образом, из центральной и южной Европы: голландцы, немцы, англичане и больше всего итальянцев, греков и мальтийцев. И ещё приехало много людей из восточной Европы — так называемые «дипийцы» из лагерей для «перемещённых лиц»: поляки, украинцы, белорусы, а также русские и люди некоторых других национальностей. Конечно, Австралия могла бы быстро наполниться людьми из Азии, но тогда, и до 1970-х годов, в страну пускали только белых, по так называемой «White Australia policy». Несмотря на то, что власти поощряли миграцию, простые австралийцы не очень были рады новым приезжим. Вообще-то это было вполне понятно, но новые австралийцы не могли чувствовать себя «как дома». К примеру, я приехал в страну много позже, в октябре 1957 года, но и тогда можно было почувствовать отголоски такого обращения «людей на улице», когда, разговаривая с друзьями по-русски, можно было услышать окрик: «Speak English». Новым австралийцам давали разные клички, например, греков и итальянцев называли «dago» и даже англичане у них были «pommy».
И, если так было в 1957 году, то я могу вообразить, что же было на 6 лет раньше, в 1951 году, когда бабушка приехала сюда! Она никогда не жаловалась, но по письмам чувствовалось, как она скучает по прошлой жизни. Потом она стала болеть и скончалась в 1954 году, и теперь покоится на кладбище в сиднейском пригороде Botany. Но, вернёмся к школьным делам в Харбине.
Осенью 1951 года закрылась ещё одна харбинская школа — Лицей Александра Невского на окраине Славянского городка, за электростанцией и трамвайным парком, и там на целых 3 года наша 2ССШ получила своё помещение. Однако, эти 3 года не были одинаковыми. Первый год там школа была смешанной, а потом два года — только мужской.
А на Пасху 1954 года, когда я учился в предпоследнем 9 классе, в городе объявили, что русским харбинцам разрешено ехать жить в СССР на освоение целинных и залежных земель Казахстана и Сибири. И более половины всего русского населения Харбина за одно лето уехали туда. Соответственно поредели ряды и школьников и наша 2ССШ в свой последний год существования под этим названием, а в мой последний, выпускной год стала снова смешанной, вобрав в себя женскую 3ССШ, но переехав в её здание в Новом Городе.
(справка) Целина — это не подвергавшаяся обработке, никогда не паханная и, часто, засушливая земля. В СССР к середине 1950-х годов такая земля, размером с Германию, была в Казахстане и Сибири.
Возвратимся, однако, в то судьбоносное лето 1954 года. Это был конец русского Харбина, но мы тогда об этом ещё не догадывались. Из этого, основанного русскими и, как сказал один поэт, «руссейшего города Китая», и раньше уезжало много русских людей, но никогда больше половины. Особенно, это было чувствительно в районе, где мы жили — в Гондатьевке, в которой до 1954 года было приблизительно 80–85% русских жителей, а после лета этого же года такой процент, или даже больше, был уже китайцев. Почти каждый день всё лето мы провожали кого-то. Помню, как мы, молодые ребята, полночи бродили по Гондатьевке, растянувшись во всю ширину улиц и горланя песни, какие придут в голову. Запомнилась одна, вероятно, переделанная из какой-то другой незадолго до этого:
Прощай, прощай Харбин родимый,
Прощай Гондатьевка моя,
Тебя я больше не увижу,
Я уезжаю на Алтай
На целине пшеницу сеют
И не растёт там саксаул
И каждый знает, на Алтае
Столица — город Барнаул
Да, почему-то все думали, что целина — это Алтай. И я сам, провожая каждый день кого-то из друзей, стал думать, что, наверное, ехать на целину — это правильно, романтично и, во всяком случае, патриотично. Когда я сказал об этом маме, она не стала возмущаться, а как-то хорошо и спокойно поговорила со мной. Она не отговаривала меня, а просто показала, какие разные последствия могут возникнуть у меня в различных ситуациях. Мама начала с того, что мне остался всего один год, чтобы окончить школу и лучше это сделать здесь, в Харбине, поскольку на целине это, вероятно, будет невозможно. А, получив среднее образование, мне откроются гораздо больше возможностей, в том числе получить высшее образование. А это даст больше шансов в будущем заниматься тем, что будет не в тягость, а в радость. А ещё мама заметила, что далеко неизвестно, как советские власти отнесутся к приехавшим харбинцам. Может быть также, как и к тем харбинцам - советским гражданам, которые в 1935 году после продажи СССР КВЖД японцам, уехали на Родину и до сих пор неизвестно, что случилось с ними вскоре после их приезда в Советский Союз: — они пропали, сгинули — ни писем, ни открыток.
(Тогда, в 1954 году, судьба более 30 000 «советских харбинцев», уехавших в СССР, была неизвестна и прояснилась только в 1980-е годы, когда был опубликован приказ Ежова. Первые строчки этого приказа, отражающие самую суть дела, помещены ниже:
НКВД. ПРИКАЗ № 00593 от 20 сентября 1937
Органами НКВД учтено до 25000 человек, так называемых «харбинцев» (бывшие служащие Китайско-Восточной железной дороги и реэмигранты из Маньчжоу-Го), осевших на железнодорожном транспорте и в промышленности Союза.(…) В подавляющем большинстве они являются агентурой японской разведки, которая на протяжении ряда лет направляла их в Советский Союз для террористической, диверсионной и шпионской деятельности.
ПРИКАЗЫВАЮ 1. С 1-го октября 1937 г. приступить к широкой операции по ликвидации диверсионно-шпионских и террористических кадров харбинцев на транспорте и в промышленности. и т. д. …
(и мой комментарий): — Какой невероятный успех японской разведки! В короткий срок она смогла заслать в СССР свыше 30 000 японских шпионов!!!).
А напоследок мама сказала, что, уехав в СССР, я вряд ли смогу потом поехать в Австралию, а, если наоборот, то очень даже возможно. И я понимал, что во многом она была права.
И вот, вспоминая наш разговор, вдруг подумал о том, к чему все уже давно привыкли, но никто особо не заморачивался, как будто так и должно было быть. Речь идёт об отношении людей, приехавших в командировку из СССР, которых временами было очень много в городе, с русскими харбинцами. А этих отношений просто не существовало. Приезжим из Союза явно запрещали общаться с местными русскими и они послушно «в упор не видели» их. Харбинцев это не смущало и они отнюдь не страдали по этому поводу, говоря с юмором, дескать, «им же хуже от этого».
Правда, какие-то маленькие канальчики связи, похоже, существовали. Я знал нескольких харбинцев, которые были вроде посредников в какой-то купле-продаже с приезжими из СССР и некоторые харбинцы сплавляли через них свои немало заезженные граммофонные пластинки разных эмигрантских эстрадных певцов. Особенно большой спрос был на пластинки Петра Лещенко и Вертинского.
Лично у меня с людьми из Советского Союза никаких соприкосновений не было, лишь однажды было что-то вроде «полусоприкосновения». Я как-то сидел на скамейке около памятника советским солдатам, что был напротив собора, и разглядывал принесённую мне почитать подшивку за 1929 или 1930 год харбинского журнала «Рубеж». Я несколько задержался на странице, на которой были крупно напечатанные слова: «Типы Советской России», где карикатурно и не совсем правдоподобно изображены люди разного рода занятий в СССР. Там было много рисунков, но я помню лишь несколько. — Рисунок. Мальчишка лет 15 сидит за столом, а под рисунком надпись: «Судья». Рядом изображён старик интеллигентного вида с пенсне и надпись — «Мальчишка на побегушках». Далее стоит мужеподобная женщина с короткой стрижкой и с сигаретой во рту
и название — «Девица» и т. д. Так вот, сидел я, разглядывая рисунки и вдруг слышу сзади меня смешок и возглас: «Здорово!». Оборачиваюсь и увидел одного из этих советских приезжих, который внимательно смотрел на карикатуры. Должен признаться, я несколько встревожился: если этот человек захочет сообщить, куда следует, то мне могут «пришить» антисоветскую агитацию, и я быстренько захлопнул журнал и ещё быстрее удалился.
И ещё был небольшой эпизод, но весьма характерный. Дело было на вокзале. Мы, человек 7 или 8 ребят, проводили на целину одного из друзей и сели за столик в вокзальном ресторане поговорить за кружкой пива. Через некоторое время к нам подошёл какой-то незнакомый русский парень и китаец. Парень, которого сразу определили, как приезжего, потому что он спросил нас: «Вы русские?» Далее пошёл такой, примерно, разговор:
«Можно присоединиться к вам?» — Пожалуйста!
" Вы уезжаете куда-то?» Нет, провожали друга в СССР.
«Вы давно здесь живёте?» — Да, очень давно.
«И как вам здесь живётся?» — Прекрасно!
" Здесь есть русское кино?» — Да, и не одно.
К этому времени сопровождавший парня китаец дважды говорил ему: «Надо идти!», а парень отмахивался от него, говоря: «Да подожди ты, ведь я встретил своих здесь — немного поговорим и пойдём». Тогда китаец наклонился к нему и что-то нашептал на ухо. И, если бы вы видели, как мгновенно изменился наш парень! Только что его дружелюбное открытое и улыбчивое лицо вдруг помрачнело и как бы закрылось. Он встал и, ни к кому не обращаясь, выдавил из себя: «Мне надо идти», и ушёл. Оказалось, мы — не свои!
Я вспомнил об этом, когда много позже услышал российского исполнителя А.Малинина, который пел о русских эмигрантах, похороненных на кладбище Сент Женевьев де Буа под Парижем:
Вроде бы русские, вроде бы наши,
Только не наши они, а — ничьи!
И, хотя моя уверенность, что надо ехать в СССР, сильно поколебалась, я всё же решил узнать, что надо сделать, чтобы ехать на целину. Отправился в Общество граждан СССР и там ответить на мой вопрос почему-то позвали самого председателя Общества г. Говорука. А он, с места в карьер, стал громогласно корить меня: «Запись на целину закончилась два дня назад. Как вы могли так несерьёзно отнестись к такому важному вопросу?» и т. д. и т. п. Я тогда не стал объяснять что-либо, а только сказал: «Прошу прощения, что отнял у вас столько времени и — всего вам доброго!».
Неожиданно для меня получили письмо от моего крёстного, Степана Ивановича Дучинского. Мы, когда ещё были в Тяньцзине, то жили у него на квартире. Он уже во время китайской гражданской войны уехал с женой из Тяньцзина через Владивосток на свою родную Украину и жил где-то под Киевом. Оказалось, моя мама обратилась к нему с просьбой посоветовать своему крестнику (т. е. мне) куда лучше ехать. И мой крёстный написал, что мне лучше ехать к своей тёте Шуре. Совет был предельно ясен, потому что моя тётя Шура уже несколько лет жила в Австралии и крёстный знал это.
Когда на следующую весну 1955 года опять была запись на целину, я уже не захотел стать целинником, хотя в школе, в моём выпускном 10 классе более половины всех 38 учеников уехали на целину, насколько помню, на следующий день после выпускного Белого бала. И не только они, а больше 75% всех русских харбинцев за два лета расстались с родным городом. О том времени хорошее стихотворение написала моя соученица Наталия Грачёва Мельникова, из которого я приведу две последние строфы:
Нам быть изгнанниками снова,
Харбин сломался пополам:
Изгои — на чужбинах новых,
А возвращенцы — в путь суровый
К пустым, не ждущим их полям.
Нас аист не принёс в Россию,
Туда пути не привели,
Но мы рождались с ностальгией,
Полусвои, получужие,
На перепутье всей земли.
После окончания школы
Да, в это время, казалось, всё меняется и рушится вокруг меня. Мамины слова, что по окончании школы, мне откроется широкое поле возможностей с каждым днём, похоже, имели противоположный смысл. То, что учиться дальше у меня не получится я к этому времени уже знал. Ещё несколько лет до этого харбинские выпускники русских школ могли поступить в Харбинский политехнический институт (ХПИ), но после того, как СССР в 1952 году отдал быв. КВЖД Китаю институт сразу перешёл на китайский язык, знание которого у многих было далеко не достаточным.
Ещё оказалось, что в Харбине совсем не осталось мест, где такому, как мне, можно было получить какую-либо работу. Кое-кто из моих сверстников успел устроиться работать учеником токаря в немногих ещё существовавших русских мастерских, зачастую бесплатно. К сожалению, я опоздал вовремя сделать то же самое. Некоторое время у меня была надежда поступить учителем или помощником учителя русского языка в китайский Институт иностранных языков (ИИЯ). Хороший друг нашей семьи и старший преподаватель в этом институте Игорь Иванович С. пообещал замолвить там слово за меня. Когда с этой целью мы пошли в институт, то там он после разговора с каким-то китайцем из Отдела кадров сказал мне, что, к сожалению, ничего не вышло, потому что сейчас вакансий нет, а для меня и не будет, поскольку руководство института обещало Обществу граждан СССР брать на работу только тех русских харбинцев, кто записался на выезд в СССР. И, хотя это было довольно странно — брать на работу того, кто вскоре должен уехать, но это мне, как говорится, было без разницы. Тогда я ещё не знал, что мне предстоит ещё два года постоянных поисков какой-нибудь даже временной работы и, соответственно, постоянного безденежья. А полного уныния и отчаяния мне помогло избежать занятие спортом, главным образом, футболом и хоккеем (в зависимости от времени года) И об этом я расскажу далее.

Спорт в моей жизни
Футболом я увлёкся довольно рано, в 3-ем классе школы, когда мы проводили целые баталии на школьном дворе. Как обычно, самые ловкие и умелые из ребят назначали себя играть в нападении, а менее ловких ставили в защиту. И меня определили в защитники, но мне вполне понравилось это амплуа. Со временем я, похоже, заслужил репутацию цепкого защитника, через которого «трудно пройти» и многие даже очень старались включать меня в составы своих команд.
Дома моё увлечение сначала всерьёз не приняли, дескать, что это за занятие — гонять мяч! И вот решили заполнить наш досуг уроками фортепиано и французского и английского языков. Чтобы было всё, как в лучших домах! Для этой цели пригласили уже немолодую даму, которая взялась учить всему этому нас четверых: меня, сестру и двух моих двоюродных сестёр. Как всё это происходило? Сначала мы по очереди сидели за пиано и выстукивали бесконечные гаммы и «ганоны». Потом садились в кружок и, как попугаи, повторяли за учительницей иностранные слова и фразы. Всё это было очень нудно и, к тому же, казалось мне совершенно бесполезным. Вообразите моё состояние: заниматься этим всем в то самое время, когда гондатьевские ребята во всю гоняют мяч всего в квартале от меня на пустыре, где раньше был маньчжуговский полицейский участок на углу Румынской и Крестовоздвиженской улиц? И я стал убегать от этих ненавистных уроков. Потом на меня махнули рукой — раз не хочет, то всё равно из него никакого толка не получится! Ни пианиста, ни полиглота!
Большое влияние на мои спортивные пристрастия оказала детская летняя площадка. В те годы на школьные летние каникулы были организованы три основные площадки: одна на Пристани на стадионе на Аптекарской улице, вторая в Новом Городе на стадионе О-ва граждан СССР и третья — в Модягоу в помещении 2ССШколы. Дети проводили там такое же время, как и во время учёбы в школе. Занимались там самыми разными интересными делами: игры, экскурсии и, конечно, спорт под руководством специально нанятых людей. На площадках были сформированы футбольные команды: «Звёздочка» на Пристани, «Ласточка» в Новом Городе и у нас в Модягоу — «Стрела», которые регулярно в течение лета азартно соревновались друг с другом на стадионе О-ва граждан СССР. Эти игры были для меня первым опытом, так сказать, официальных соревнований в команде, составленной не для одной-двух игр, а на целый сезон, и которая играла на настоящем футбольном поле с разметкой, воротами с сеткой и даже настоящим судьёй со свистком.
Эти детские (до 12 лет) команды стали потом основой школьных команд, сначала младшей группы, а затем и старшей, и я, вместе с другими, плавно переходил из одной категории в другую. В главной старшей школьной команде 2ССШ я стал играть осенью 1952 года и следующие три года моей спортивной жизни были самыми радостными и приятными, когда постоянно хотелось играть — и не просто играть, а стараться постигать все тайны этой сложной, хотя, на первый взгляд, очень простой игры. И мне казалось, у меня стало что-то получаться.
Я начинал, как не очень ловкий, но эффективный защитник-разрушитель вражеских атак, который умел занимать правильную позицию на поле. Со временем стал овладевать техникой игры, стал лучше видеть поле и расстановку игроков на нём и я почувствовал вкус к более творческой и созидательной игре. В этом большую помощь я получил, применяя разные обманные движения в игре. Помню, как впервые попробовал такие приёмы и сам был немало удивлён, как легко соперник поддаётся на это. Секрет успеха был в том, чтобы ложное движение делать вовремя, не быстро и не до конца, наблюдая за реакцией соперника. Я пишу всё это в надежде, что это как-то может помочь какому-нибудь молодому футболисту разнообразить и обогатить свою игру так, как это было со мной.
Мне кажется, что достигать какого-то прогресса в игре мне помогло то, что я играл в составе команды 2ССШ, в которой собрались очень сильные игроки. Эта наша школьная команда выступала по 2-ой категории в городском чемпионате и там мы, похоже, были на голову выше остальных команд. Вероятно, поэтому нашу школьную команду решили попробовать в неофициальных играх против команд, выступающих по 1-ой категории, и в этих играх мы проявили себя вполне достойно и никакого «избиения младенцев» не произошло. Мы даже одну из этих команд — железнодорожников «Локомотива» — сумели обыграть. И вот нашему преподавателю физкультуры в школе Анатолию Лукину, который был одним из ведущих игроков «Локомотива», пришла идея объединить силы нашей школьной команды и «Локомотива» для предстоящей неофициальной игры с приехавшей летом 1953 года сборной команды города Мукдена (теперь г. Шеньян). Каждый год встречи лучших русских команд Харбина с мукденцами были традиционной «изюминкой» сезона. Футболистов Мукдена было наслаждением наблюдать, их отличала изумительная техника, элегантная красивая манера игры, они плели настоящие «кружева» комбинаций на поле. В команде Мукдена все игроки были китайцы, кроме одного — но какого одного! Это был Виктор Попков — легенда харбинского послевоенного футбола, центра нападения «Красной Звезды», который, переехав в Мукден, стал играющим тренером сборной этого города. Я помнил его с детства, когда мы, гондатьевские 9–10 летние ребята, «идолизировали» его, а он иногда милостиво разрешал кому-нибудь из нас нести его бутсы, и мы с завистью смотрели на счастливца. И вот, теперь мне предстояло сразиться с ним.
Здесь следует познакомить читателей, не очень сведущих в футбольных делах, с основами тактики игры. Что делают игроки на поле? Правильно, играют! Однако, у каждого есть своя роль — защитники — защищают, нападающие — атакуют, — и в зависимости от этого игроки и располагаются на поле. С начала ХХ века все полевые игроки располагались по схеме 2:3:5 (защита: полузащита: нападающие) — так называемая схема «пять в линию». Приблизительно с начала 1930-х годов почти все команды стали играть по системе «дубль-ве», т. е. W, где построение было: 3:2:5 — но эти пять нападающих играли, как в букве W, с двумя заметно оттянутыми полусредними нападающими. Так играли с 1930-х годов и до 1958 года, когда сборная Бразилии на чемпионате мира в Швеции применила совершенно другую схему — 4:3:3, которая в разных вариантах используется почти везде до сих пор.
Все русские харбинские команды играли по той устарелой системе «пять в линию», которая была популярна в мире до 1930-х годов. Это, вероятно, случилось, потому что ни у одной из харбинских команд не было в составе такой штатной должности, как тренер. Чаще похожую роль играли наиболее авторитетные игроки в команде, но у них, конечно, не было возможности менять что-то фундаментальное в тактике. Китайские команды, приезжавшие в Харбин, в том числе и мукденцы, все играли по системе W, т. е. более современной. Однако, русские харбинские команды играли против них довольно успешно и на хорошем уровне. Наверное, поэтому никто и ничего не хотел менять.
Но возвратимся в то лето 1953 года.
И вот подошло время первой игры сборной Мукдена с «Локомотивом», в которой из всех 11 игроков семеро были из нашей 2ССШ и только четверо из «Локомотива», кстати, действительно замечательных четырёх футболистов. Я играл правым защитником и никогда, ни до этого, ни после мне не доводилось так много и интенсивно двигаться в течение всех 90 минут игры. Мне трудно судить, как я справился с игрой, но, кажется, я всё же не опозорился, а эту игру, хоть мы и проиграли тогда 1:3, я и сейчас считаю вершиной, пиком своей короткой футбольной карьеры.
Эту встречу я ещё вспоминаю из-за такого эпизода. На следующий день после игры я с вратарём «Локомотива» Костей Поздняковым сидели на стадионе, когда к нам подошёл китаец — один из ведущих игроков мукденской команды и стал выражать своё восхищение игрой Кости в воротах накануне, сказав: «Тебе надо в „Динамо!“. На это Костя ответил, что ему уже за 20 и, наверное, поздно, а затем вдруг неожиданно, показав на меня, спросил: „А как тебе понравилась его игра?“ Китаец, скорее из вежливости, ответил, что ему и моя игра понравилась, хотя таким тоном, дескать, играл неплохо, но ничего выдающегося он не заметил. Тогда Костя сказал: „А знаешь, сколько ему лет?“, и сам ответил — 15! И, хотя я начал говорить, что мне уже через пару недель исполнится 16, Костя не стал переводить. Китаец, похоже, не поверил Косте, потому что попросил меня самого сказать, сколько мне лет. Но мой ответ: „ши-у-суй“, т. е.15 лет явно не удовлетворил его и он попросил меня показать это на пальцах, что я и сделал. А далее Костя окончательно сразил мукденца, заявив, что кроме меня накануне в команде играли ещё семеро таких же школьников. Что подумал мукденец, я не знаю, но вот через некоторое время я заметил невдалеке нашего мукденского приятеля что-то возбуждённо говорящего другим мукденцам и рукой показывающего в нашу сторону. А много позже, уже в конце сезона, я узнал, что команда Мукдена была тогда возмущена тем, что, якобы, „Локомотив“ проявил неуважение к ним, выставив на игру с ними больше половины пятнадцатилетних школьников. Кстати, это харбинское турне мукденцев было последним. На следующее лето 1954 года русские харбинцы, хоть и продолжали играть в футбол, но вся их жизнь была дезорганизована, потому что люди каждый день пачками уезжали в СССР на целину и команды, теряя игроков, постоянно перетасовывались.
Но, вернёмся на год назад в лето 1953 года. Наша команда 2ССШ продолжала официальные игры по 2-ой категории и неофициальные с командами 1-ой категории. Что касается меня, я был, в общем, доволен своей игрой и совсем было загордился, когда меня включили в состав сборной Харбина на игру с приехавшей сборной железнодорожной всего Китая. Правда, играть мне не пришлось — не выпустили, но было приятно походить по стадиону в форме сборной города Харбина в белой рубахе, на которой на широкой голубой полосе во всю грудь были вышиты красные буквы ХАРБИН, а на спине мой номер 16. Помню, что почему-то рубаха стояла на мне коробом, наверное, её, по ошибке, накрахмалили. К счастью, моё чувство гордости не перешло в зазнайство ещё и вот почему. Как-то вскоре после описанных событий я прочитал в каком-то советском журнале о молодом центре нападения московского „Торпедо“ Эдуарде Стрельцове, которого уже тогда брали в сборную СССР и, вообще, считали надеждой всего советского футбола. Меня поразило, что этот игрок был всего на 1 день старше меня! И для меня мои личные своего рода достижения мгновенно потускнели. Масштаб то не тот! И я стал следить за карьерой и успехами этого талантливейшего игрока и принял, как почти личную трагедию, то, что случилось с ним в 1958 году.
А харбинский футбол, и вообще спорт, стал быстро сходить на нет с началом лета 1954 года, когда более половины русского населения уехали на целину. В довершение, случилось неизбежное, когда осенью этого года стадион Общества граждан СССР, где проходили почти все соревнования русской общины, был передан китайской администрации. Это был поистине нокаутирующий удар. После этого по некоторым видам спорта: баскетболу, волейболу и хоккею (зимой) ещё пару лет продолжались соревнования, поскольку для них не требовалось большого размера площадок. А вот царица спорта — лёгкая атлетика фактически закончилась.
Сам я лёгкой атлетикой не увлекался, хотя и любил смотреть соревнования. Лишь однажды мне пришлось делать нечто „легкоатлетическое“. Я, как и другие в нашей школьной футбольной команде 2ССШ, стал жертвой шантажа, когда ещё летом 1953 года нам пригрозили что тем футболистам, которые не станут сдавать нормы ГТО (Готов к труду и обороне), не позволят принимать участие в официальных играх в футбол. Вот и пришлось бегать, прыгать и даже плавать. Запомнилось, как мне надо было с деревянной винтовкой за плечами и со связкой гранат (муляжей) за поясом, проползти метров 20, затем пробежать по установленному на полутора метрах высоты бревну (такому же, как и гимнастический снаряд), потом ткнуть винтовкой по очереди в два чучела, а затем швырнуть гранату на метров 25–30 в воображаемый окоп — и надо было попасть точно в „окоп“ хотя бы одной из гранат, и только после этого бежать до финиша и уложиться в нужное время. Ещё помню был „пеший переход“. Нам, каждому из участников, всыпали килограммов 5–10 песка в заплечный мешок и мы с ним должны были пройти 20–25 километров и тоже уложиться по времени. Кроме этого надо было сдавать нормы ещё по 8–10 видам спорта, но они были более-менее обычными. В общем, я могу похвастаться, что у меня есть значок ГТО, Он — копия советского значка, с той лишь разницей, что на нём вместо СССР написано „ОГС“ и ниже — " Харбин» и сейчас, глядя на него, вспоминаю, как нелегко он достался мне.
Весной 1955 года прошла так называемая «вторая целина», когда половина остававшихся после «первой целины» за год до этого, тоже уехали туда же. И футболистов почти не осталось в городе. Однако, летом 1955 года всё же как-то организовали одну команду. Но с кем соревноваться? И где? Но в этом нам повезло, что в команде был один из лучших футболистов послевоенного времени, хотя и на закате своей карьеры, ветеран харбинского футбола Александр (Шурик) Грязнов. Повезло нам вдвойне, потому что он также был заместителем председателя Общества граждан СССР и по должности имел связи с разными китайскими инстанциями. И вот он в течение лета 1955 года организовывал матчи с китайскими командами университетов и разных армейских частей на уже бывшем стадионе Общества граждан СССР. Интересно отметить, что в армейских командах, а также команде города Муданьцзян, играли почти исключительно этнические корейцы и их манера игры разительно отличалась от игры китайцев. Корейцы старались передавать мяч в одно касание и бить по воротам при малейшей возможности и из любого положения. Понятно, что такая игра способствовала большому количеству технического брака и требовала от игроков хорошей техники.
Здесь мне хочется как бы заглянуть на несколько лет вперёд. Разницу в стиле и манере игры китайцев и корейцев я вспомнил много лет спустя, уже в Австралии, в связи с розыгрышем путёвки на чемпионат мира по футболу 1966 года в Англии от азиатско-тихоокеанского региона, между командами Австралии и Северной Кореи. Когда я прочитал в сиднейской газете, что Австралии нечего опасаться корейцев, поскольку у неё есть положительный опыт игры с азиатскими командами, в частности, с командами из Гонконга. И тогда я понял, что австралийцев ждёт большой сюрприз и огромное разочарование. И, действительно, по сумме двух матчей этих команд, проходивших на нейтральном поле в Камбодже, счёт был 9:2 в пользу корейцев и в Англию поехала Сев. Корея. Кстати, не только австралийцы напоролись на необычную манеру игры корейцев. Уже в Лондоне, их команда пробилась из своей группы в четвертьфинал после неожиданной победы над таким грандом мирового футбола, как сборная Италии. А в четвертьфинале они ошеломили одну из сильнейших в тот период времени сборную Португалии во главе с великим игроком Эйсебио, когда после 25 минут игры счёт стал 3:0 в пользу Сев. Кореи. Это была удивительная игра, потому что окончательный счёт стал 5:3, уже в пользу Португалии, которая закончила чемпионат на высоком третьем месте и с бронзовыми медалями.
А сезон 1955 года для нас в Харбине закончился на положительной ноте, когда в комплексных соревнованиях по разным видам спорта с китайскими спортсменами Харбинского политехнического института (ХПИ) мы в футбольном матче одержали победу. Это была последняя игра последней русской команды Харбина. В следующих сезонах 1956–57 годов, когда я ещё жил в этом городе, никаких русских команд уже не было. Должен сказать, что для меня это было настоящей трагедией: закончить свою футбольную карьеру в 18 лет и, когда что-то действительно стало получаться.
Если в эти годы мы не могли играть в футбол, то летом соревнования по баскетболу и волейболу продолжались, а зимой на катке пристанской «розовой» школы оживлённо проходили хоккейные баталии. Я довольно много писал о футбольных делах, но моя любовь к хоккею была не меньше, чем к футболу. К тому же у меня не было проблемы, какому из них отдать предпочтение, поскольку в эти виды спорта играли в разное время года.
В хоккее у меня многое было похоже на то, что со мной происходило в футболе. Также начинал с младшей группы школьной команды и до взрослой команды после окончания школы. Ещё, когда я учился в средних классах, моя мама купила для меня подержанные коньки — такие, как у фигуристов с зубчиками в передней части лезвия, которые все называли «Астры» (к слову, в Харбине хоккейные коньки называли «дуксы», а коньки с удлиненным лезвием для скоростного бега на коньках — «норвежки»). Так вот в начале все мои хоккейные соперники на «дуксах» имели преимущество по сравнению со мной на «астрах» в скорости и маневренности и мне приходилось не кататься, а самым банальным способом бегать по льду. Потом я получил казённые хоккейные «дуксы» и всё встало на свои места. Ещё я вспоминаю, как однажды наша школьная команда пошла на забастовку. Дело было так, китайская администрация только что переданного им, теперь уже бывшего стадиона Общества граждан СССР, выделило для школы дюжину бесплатных сезонных билетов на каток. Ожидалось, что их раздадут спортсменам, в частности хоккеистам, а получили их юнаки и ССМ-цы (юнаки и ССМ — это харбинская версия пионеров и комсомола в СССР). Вот мы, хоккеисты и возмутились, заявив, что пусть теперь юнаки и защищают честь школы в хоккей.
Когда-то, в 1930–40 годы хоккей, впрочем как и футбол, были на очень хорошем уровне. Например, ещё до 1945 года чемпион Японии команда «Васеда» была немало посрамлена во встрече с русской хоккейной командой, а один из лучших хоккеистов Харбина Михаил Антушевич, приехав в 1949 году в Польшу, был сразу привлечён в сборную Польши, как играющий тренер и я помню его на фотографии в московском журнале «Огонёк» в рядах приехавшей в СССР сборной Польши, с перечислением фамилий игроков. Из того легендарного времени остался один игрок, о котором я уже писал — Шурик Грязнов, который также, как и в футболе, имел возможность договариваться с китайскими командами о проведении товарищеских встреч, и не с какими-то командами заводов и университетов, а с самой сборной Китая. Он мог это делать ещё и потому, что тренер этой сборной, Гоша Сюй, был бывшим одноклубником Шурика. Игры проходили на стадионе на Бадеровском озере, где сборная Китая, готовившаяся к каким-то азиатским соревнованиям, жила в помещении под трибунами. У них всё было организовано на профессиональном уровне. Во всех играх их тройки и пятёрки сменялись каждые несколько минут в то время, тогда как мы играли почти без замен.
Я думаю, китайская команда рада была принимать нас, потому что в городе у сборной Китая не было лучшего спарринг-партнёра, чем наша русская команда. Помимо этих игр с китайцами, оставшиеся после всех «целин» русские харбинцы организовали две команды из лучших игроков: одна команда «Смена», а другая — «Чайка» (в которой я играл левого нападающего) и мы довольно регулярно проводили официальные розыгрыши. И всё это немного скрашивало нашу не очень радостную жизнь в эти годы.
Мои последние годы в Харбине
Я уже начинал говорить на эту тему. О том, что после окончания школы я не мог получить какую-либо работу. И, вот я услышал, что недалеко от нашего дома, в так называемом гараже Панова, набирают молодых парней учиться на автомеханика. Пошёл туда, а там меня пытались отговорить: сказали, что эта работа не для меня, потому что человеку, окончившего школу, эта грязная малооплачиваемая работа не подходит, а также потому, что мне, пока не научусь, платить вообще не будут. Однако, я решил, что лучше такая работа, чем просто ничего не делать, и я согласился на все их условия. Определили меня в бригаду к одному из механиков, и я месяца два или три откручивал болты и гайки, мыл в бензине разные железки. Но, однажды, уже в холодное время, мне пришлось что-то долго откручивать, лёжа под грузовиком. В результате я простудился, а, когда поправился, то решил зимой там не работать. И, чтобы как-то занять себя полезным делом, устроился помогать киномеханикам в Новогороднем советском клубе и тоже бесплатно. Так же бесплатно пошёл работать в одну из мастерских, хозяин которой получил большой заказ, и я в ночную смену делал какую-то простенькую токарную работу. Через месяца два заказ был закончен и хозяин по доброте душевной даже выделил мне небольшую сумму из своего куша. Но и на этом — спасибо. А ещё через месяца три «отдыха» мне повезло устроиться в мастерскую Николая Гордеича Казина, который также временами получал заказы на разную продукцию и мне он предложил «сдельную работу», т. е. он будет платить мне в зависимости от сделанной мной работы. Это был какой-то прогресс и я старательно точил на токарном станке части приспособления для охотников — так называемые «рукопёры», и тоже в ночную смену. Но заказы на рукопёры скоро кончились и я опять пошёл «отдыхать». И больше мне в Харбине уже не пришлось работать. Кроме этого, вообще жизнь в городе становилась всё трудней и трудней.
Страну начало лихорадить. Отношения с Советским Союзом стали портиться после ХХ съезда КПСС в 1956 году, когда Никита Хрущёв выступил с критикой Сталина и резко сменил партийный курс. Китаю это не понравилось, они назвали это ревизионизмом коммунизма и стали по отношению к СССР более жёсткими и требовательными. Так, они «попросили» СССР передать им часть ядерного оружия и технологии его изготовления. Не вышло. И ещё, по воспоминаниям Хрущёва, Мао при встрече с ним пытался убедить его не бояться ядерной войны, потому что после неё останется больше антизападных сил и будет легче построить коммунизм. Тоже не вышло. Тогда Мао Цзе Дун стал видеть себя, а не Хрущёва, во главе всего социалистического мира, и, в пику Хрущёву, решил построить коммунизм в Китае раньше, чем в СССР. Для этого надо было нейтрализовать консервативную часть общества, не очень готовую к преобразованиям. Бросили лозунг: голос простого народа — голос правды. Поэтому стали поощрять идеи и предложения от рядовых работников и далеко не все они улучшали ситуацию. Вот несколько примеров.
— Водитель грузовика советского производства с потенциально максимальной загруженностью в 3 тонны заявил, что он попробовал загрузить 10 тонн и грузовик вполне справился. Его похвалили и разрешили так и дальше действовать. Результат: через два рейса грузовик сломался и потребовал дорогого ремонта.
— Подсчитали, что каждый воробей съедает за год сколько-то килограммов зерна. Поэтому, чтобы сохранить это зерно, надо уничтожить воробьёв. Так и сделали. В результате в отсутствие воробьёв урожай зерна был почти полностью уничтожен разными насекомыми и китайцам пришлось импортировать воробьёв из заграницы, кажется, из Японии.
— Ещё можно привести много подобных примеров, но скажем только о том, который наиболее повлиял на продуктовую ситуацию в стране. Всех китайских крестьян начали объединять, даже не в колхозы, а в коммуны, в которых всё, абсолютно всё, было общим. Наверное, ожидали какого-то улучшения, но получилось совсем наоборот. Не могу говорить обо всём Китае, но в Харбине мы стали испытывать недостаток почти во всём. Были введены карточки на многие продукты и товары. Помню, как надо было простоять в длинной очереди, чтобы купить какую-нибудь крупу или растительное масло, или ещё много чего. Даже с пивом были большие проблемы. Бывало, пойдёт слух, что через час или два к определённому кооперативу должны подвезти пиво, и тогда немедленно к этому кооперативу выстраивалась огромная очередь людей с разными посудинами в руках.
Всё это было прелюдией к так называемой «культурной революции», которую официально объявили в Пекине много позже — в 1966 году. Эта начатая хунвейбинами революция, которую впоследствии в самом Китае назвали «десятилетием анархий и беспорядков» и которая чуть было не привела Китай к полной катастрофе. И, к счастью, мы не испытали её, поскольку были уже далеко.
С началом 1957 года русские харбинцы стали получать разрешения от советского генконсульства на выезд за границу. Говорят, к этому СССР побудили китайские власти, дескать, если вы не можете своих граждан склонить ехать в СССР, то пусть они уезжают куда хотят! В то время и Китай и Советский Союз ещё были друзьями, но в этой дружбе уже наметилась трещина. Однако, СССР ещё старался наладить отношения и даже с этой целью в Китай приезжал один из самых ближайших соратников Сталина, Клим Ворошилов, но, похоже, безрезультатно. Всё же тогда Советский Союз не хотел обострять отношения с Китаем и, поэтому, в вопросе русских харбинцев, желающих уехать заграницу, не стал препятствовать их отъезду, пойдя навстречу пожеланиям китайцев. А мы стали замечать, как люди, наши знакомые вдруг как бы незаметно исчезали из города. Незаметно — потому что уезжающих предупреждали не афишировать отъезд. И русское присутствие в этом, основанном русскими, городе стало окончательно сходить на нет.
В середине 1957 года настала и наша очередь получить долгожданное разрешение, и после обычной в таких случаях канители мы подошли к моменту прощания с родным городом. Пытаюсь вспомнить, что я чувствовал, стоя в последний раз на перроне харбинского вокзала? Печаль? — да! Сожаление? — нет, только облегчение и надежду, что будет лучше. И вот гудок, ещё гудок — и мы уже в дороге к чему-то неизведанному.
Тяньцзинь
В этом городе нам предстояло дожидаться попутного парохода до Гонконга. Я с некоторым волнением ожидал встречи с городом моего раннего детства, из которого уехал в пятилетнем возрасте и в котором вот теперь на подходе другая круглая дата моей жизни — мне исполняется 20 лет. А сам Тяньцзинь меня разочаровал — сплошной камень и никакой зелени! Ещё нам не повезло с погодой, потому что мы попали в самый разгар сезона «фу-тяна», когда днём стоит такой зной, что непривычному человеку трудно выдержать, потому, что бывает абсолютное безветрие, ни малейшего дуновения ветерка. Поэтому не удивительно, что днём улицы Тяньцзиня были пусты, все сидели в относительной прохладе своих жилищ. Впечатление, как будто город покинули все его жители. К вечеру жара спадала, и вдруг город преображался. Как по мановению волшебной палочки, сотни, тысячи тяньцзинцев заполняли улицы. В том месте, где мы поселились, вся широкая магистральная улица была полностью занята толпой, они были не только на тротуарах, но и на всей ширине проезжей части. Меня, однако, заинтриговало то, что вся эта масса людей, не особенно торопясь, двигалась куда-то в одну сторону. Мне захотелось узнать, куда же они идут и я влился в толпу и шёл с ней минут 25–30, пока не стал беспокоиться, что могу заблудиться и решил возвращаться. Однако, идти против движения толпы было, мягко выражаясь, очень непросто. Но, всё обошлось.
Тяньцзинь удивил меня и с приятной стороны, Вы помните, как трудно в последнее время стало жить в Харбине. Что многого не хватало, почти всё было по карточкам. А в Тяньцзине всего было в избытке — покупай, что хочешь и сколько хочешь. Было трудно поверить, что Харбин и Тяньцзинь — это города в одном и том же государстве. И ещё я помню Тяньцзинь, как город, где я ел самые вкусные и ароматные помидоры.
В Тяньцзине мы прожили около месяца, а затем на пароходе с китайской командой, но на корме которого развевался британский флаг и с коротким заходом в порты Циндао и Даляня (быв. Дальний), направились в Гонконг. Всё прошло без происшествий, если не считать приступов морской болезни. Из того, что было необычным, меня удивил цвет моря в проливе между Тайванем и материком — оно было какого-то тёмно синего цвета — такого я больше не видел нигде.
Гонконг
И вот наш пароход из открытого моря сворачивает в какой-то залив и долго идёт по каким-то проливчикам, мимо каких-то островков, пока нам неожиданно не открылся вид на сам Гонконг. Зрелище было незабываемое. Было вечернее время и мы увидели море огня, светящиеся разноцветные рекламы и впереди всех большая красно-синяя круглая реклама сигарет «Lucky Strike». Огни вечернего города поднимались вверх в гору и невольно напрашивалось сравнение с рождественской ёлкой. Нас встретила тётя Наталия, которая уже много лет жила в Гонконге с мужем Leslie и мы всё наше гонконгское время прожили у них на квартире. В городе, впрочем как и в Тяньцзине, оказалось много харбинцев, дожидающихся пароходов, идущих к конечной точке их путешествия — в Австралию, Бразилию или ещё куда. Поэтому и в Гонконге я был рад снова встретить старых знакомых. Город очень интересный — какая-то смесь европейского с азиатским. В то время Гонконг ещё принадлежал Англии и в городе было заметно присутствие британских солдат и ещё других солдат-гурхов из Непала, которых англичане нанимали на службу в своих колониях. Мы прожили в Гонконге приблизительно месяц и, наконец, подошло время двигаться дальше.
По дороге в Австралию
И вот мы грузимся на пароход «Changte», идущий в Австралию. Неожиданно узнаём, что помощником капитана на этом судне и на этом рейсе будет муж, или правильнее сказать — вдовец, моей тёти Маруси, которая ещё в 1940-х старалась выписать нас всех в Австралию, но умерла, не дождавшись. Её муж Джек много лет работал капитаном на разных гражданских судах, но, выйдя на пенсию, временами привлекался, как и в этом случае, в помощь молодым капитанам.
Мы шли по южным морям без происшествий, лишь однажды сделали остановку в индонезийском порту с неблагозвучным названием — Таракан, чтобы заправиться горючим. Интересно, что из-за мелководья корабль остановился очень далеко, не меньше километра, от берега. Нам предложили сойти на берег. Для этого нужно было долго идти по узким деревянным мосткам, а на берегу мы заходили в дома местных жителей прицениваться и покупать связки вкуснейших бананов. Меня там удивило, что почти в каждом доме на видном месте висели портреты Мао-Цзе-Дуна, хотя в то время в Индонезии был свой харизматичный вождь Сукарно.
В этом плавании мне ещё запомнился праздник пересечения экватора. Для всех тех, кто пересекал его впервые, как, например, меня, проводили церемонию посвящения. Что это такое, я расскажу при помощи цитаты из Википедии:
" Есть на свете такая старая, добрая морская традиция при пересечении экватора устраивать праздник. Экватор, как вам известно — это такая воображаемая, но вполне определенная линия, разделяющая нашу планету на два полушария: северное и южное. Согласно установившимся традициям на морских кораблях, будь то торговое судно или военный крейсер, всем впервые пересекающим экватор по морю, необходимо пройти посвящение. Откровенно говоря, это одно из самых ярких и красочных событий в судовой жизни. Морской бог Нептун является на судно и после непродолжительной беседы с капитаном, тут же на палубе крестит моряков, впервые посетивших его владения».
Так вот, одним из «впервые посетившим его владения» был ваш покорный слуга. Меня посадили на стул у кромки бассейна и стали «судить». Мне вменяли всякие грехи — сказали, что я игнорирую слабый пол, что я целыми днями сижу на палубе в шезлонге и читаю Библию и т. д. и т. п. Получался просто какой-то сектант-фанатик! В действительности, было то, что я в это плавание и, на всякий случай, взял, что «подвернулось под руку» — роман Шолохова «Тихий Дон». Раньше я его уже читал, когда мне было лет 10. И вот теперь, начав читать, я просто не мог остановиться, роман полностью захватил меня. Помню, читая я не мог понять, почему его хвалят в СССР — ведь было ясно, что симпатии автора были скорее на стороне белых, а не красных.
А что было со мной на празднике царя Нептуна? Ничего страшного, — меня по приказу Нептуна, какой-то человек, изображавший брадобрея, шутливо «обрил» какой-то огромной деревянной «бритвой» и, к вящей радости всех, меня сбросили, как мешок муки, в бассейн. А на память осталась фотография этого действа и удостоверение о том, что я прошёл «посвящение».
Плывём дальше. И вот мы у берегов Австралии. Заходим в первый на нашем пути порт Австралии — Townsville. Сходим на берег. Порт мне понравился: небольшой, но такой уютный. Я даже объявил, что, если мне не понравится в Сиднее, то я приеду сюда жить. Однако, знающие люди сказали, что мне вряд ли понравится здесь летом, когда бывает очень жарко.
Продолжаем плыть дальше. Проходим вдоль побережья на таком расстоянии, что можно что-то разглядеть на берегу. Но вот сказали, что на берегу уже видны районы Сиднея. Всматриваюсь туда и начинаю разочаровываться в Сиднее: мы шли мимо бесконечной череды того, что угадывалось, как однообразные одноэтажные дома с непременными красными черепичными крышами. Уже много позже я понял, что это были такие далёкие районы, как Avalon, Palm Beach. А через некоторое время наше судно подошло к бухте Сиднея, там всё было по-другому и перед нами расстилался вполне современный город. На календаре было 1-е октября 1957 года.
Встретили нас наши родные, с которыми не виделись несколько лет. Для ручного багажа был взят небольшой грузовичок — utility. Когда погрузили багаж на открытую грузовую площадку, то увидели, что по дороге чемоданы из грузовичка могут выпасть и потеряться. Поэтому мне надо было сидеть на этой открытой площадке среди багажа и придерживать его руками. Дорога оказалась очень длинной, погода в тот день была холодной и ветреной и я помню, что в этот мой первый день в Сиднее я чуть ли не околел от холода. Но в последующие дни погода была тёплой, даже жаркой.
Однако, о своей жизни в Австралии я сейчас писать не буду. Мне кажется, что я очень много написал о своих 20 годах жизни в Китае, чтобы замахиваться ещё на 64 года моей австралийской эпопеи. Но, сделаю лишь одно исключение для интересного эпизода, случившегося в один из моих первых дней в этой стране, когда мы вдруг заметили, что соседи и люди на улице, задрав головы, что-то разглядывают в вечернем небе, а там по широкой дуге неспешно двигалась какая-то светящаяся точка. Кто-то узнал, что это Советский Союз запустил первый в мире искусственный спутник Земли и пошёл слух: русские запустили «Спатник» — так они в начале произносили слово «Sputnik», т. е. «спутник», но уже скоро научатся говорить правильно.
Николай Мезин
Сидней 2021 год