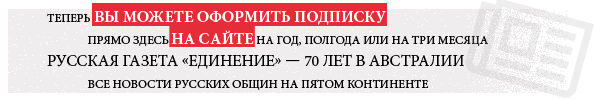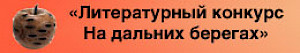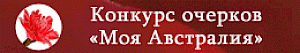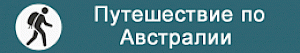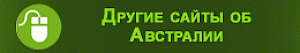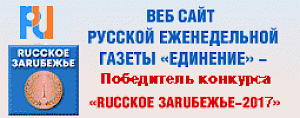После сообщений о смерти известного и любимого российского поэта Бэллы Ахмадулиной, нам в редакцию Алиса Мессерер прислала статью Азарий Мессерера, который в далеком 1980 году брал интервью у Бэллы Ахмадулиной.
В 1980 году я был в отказе и, боясь навредить своим знакомым, резко сократил круг людей, с которыми общался. Встречался я только с такими же, как и я, отказниками, и с Беллой Ахмадулиной, зная, что она никого не боится и к ней обращаются за помощью многие люди, преследуемые властями.
После участия в первом независимом альманахе «Метрополь» и смелого выступления в защиту академика Сахарова, Беллу зачислили в «черный список» — стихи ее не печатали, имя ее нигде не упоминалось, журналисты ее избегали. И вот мне пришло в голову взять у нее интервью в надежде, что
Беседовал я с ней в ставшей теперь знаменитой мастерской ее мужа, Бориса Мессерера. Она сидела в своем любимом кресле, некогда принадлежавшем Борису Пастернаку. Известно, что ее диссидентская деятельность началась в тот момент, когда она единственная из студентов отказалась подписать коллективное осуждение Пастернака, за что ее выгнали из Литературного института. Рядом с креслом стоял граммофон, неизменно фигурировавший в портретах Беллы, написанных Борисом. Граммофон также был им выбран в качестве символа «Метрополя». Он красовался на обложке огромного тома этого альманаха, толщиной, как мне показалось, в полметра, — он был собран в той же студии из напечатанных на машинке страниц. Из окон студии, расположенной на чердаке шестиэтажного дома на Поварской, открывался чудесный вид «на два Арбата: и тот, что был, и тот, что есть», как писала Белла в посвященном Борису стихотворении «Дом», написанном 37 лет назад, в начале их романа.
В тот же день я перенес ее слова на бумагу и, опасаясь обыска, стер пленку. Но когда бы я ни читал это интервью, я слышал звучание ее грустного, певучего, незабвенного голоса. Я вспоминаю также моменты, когда она задумывалась, подыскивая слова, и они приходили к ней, неожиданные, присущие только ей, точно передававшие ее чувства. Создавалось впечатление, что она не говорит, а декламирует еще не написанные стихи. Она всегда была искренней — самым презренным для нее словом было «лукавство», но в тот раз мне казалось, что она делилась со мной сокровенным, тем, что у нее накипело на сердце.
Эмигрировав в Америку, я долго не решался опубликовать это интервью — боялся навредить ей и Борису. В1987 году, в начале перестройки, они приехали в Америку, и после ее блистательного выступления в Манхэттене я спросил, можно ли вместо рецензии напечатать то давнее интервью, и она согласилась.
Через несколько дней я принес Белле американскую газету. Она внимательно прочла все интервью, ничего не сказала, но видно было, что оно ей понравилось. В тот раз я подписался псевдонимом Шабад, фамилией бабушки моей и Бориса, чтобы скрыть родственные связи с ней. Теперь это не важно — все переживают смерть великой поэтессы, как родственные ей души. Между прочим, Белла в разные годы подарила мне несколько своих книг с очень сердечными автографами, но больше всего я ценю тот шутливый автограф, что был написан ею почти сорок лет назад: «Дорогой Азарий! Ваш брат и однофамилец противится тому, чтобы мы стали родственниками, но я верю в наше будущее родство».
— Некоторые люди считают, что на Ваши стихи не влияют внешние изменения действительности, что Вы живете отрешенно от сиюминутных событий, не принадлежите к осмеянному Цветаевой племени «читателей газет». Так ли это?
— Нет, это абсолютно неверно. Я постоянно чувствую свою соотнесенность с миром и явью, к которой мне особенно мучительно приспосабливаться, даже по сравнению с другими поэтами. Абстрагироваться от внешних событий? Нет, у меня нет такой возможности.
Сейчас, когда я в опале, мне особенно трудно, но с другой стороны — я надеюсь, что обрету для себя нечто в связи с этой опалой. Поэт должен постоянно спрашивать: совершенно ли ты готов на муку? А иначе тебя сотрут, или подстригут, как газон. У великих поэтов — Мандельштама, Пастернака, Цветаевой, Ахматовой — был этот дар. Конечно, в
Но настоящие поэты и не думают, что такое искушение возможно, — именно поэтому они велики. Поэзия ведь жестокая вещь: она не прощает тем, кто купился, запятнал себя — это мгновенно чувствуется в слове, и такие поэты лично мне неинтересны. В то же время даже в ужасной судьбе Марины Цветаевой я нахожу для себя утешение.
Казалось бы, что может быть трагичнее: девочка, родившаяся в прекрасной обстановке, чье детство протекало среди людей с высоким разумом, открытым для красоты… И настоящее чудо было содеяно — снова появился в России поэт с необыкновенно ярким умом и талантом. А потом невыразимые, ужасные испытания, известные всем. И все же мы сейчас находим утешение в том, что Марина не была сломлена, не поступилась ничем. И я иногда думаю, если Бог предъявит счет человечеству за страшные злодеяния, которые на земле совершались, за уничтожение миллионов людей, и в том числе лучших, таких как Мандельштам и Платонов, чем же человечество оправдается? Чем оправдаются все эти любители сервантов и телевизоров, доносчики и убийцы? Наверное, они будут оправдываться тем, что в ту жестокую эпоху жили, создавали шедевры и остались в памяти Мандельштам и Платонов, и Цветаева. И, несмотря на то, что они были уничтожены, человечество, может быть, будет прощено за то, что они
— Ностальгия по прошлому — одна из тем Вашего творчества. Например, Вы часто обращаетесь к старой Москве с любовью. произносите имена старых улиц: Маросейка, Варварка, Ильинка… Хотели бы Вы родиться в другую эпоху, скажем, в начале
— Нет, я в общем вполне счастлива, что родилась в страшном
Но при всей своей уязвимости, я чувствую себя счастливой, потому что жизнь постоянно преподносит подарки моему зрению и слуху. С детства я ощущала в себе
Конечно, у меня есть немало стихов, появившихся из мысли. Например, меня долго и сильно мучила мысль, что я родилась в
— Вы заговорили о Пастернаке, и я сразу вспомнил мою любимую поэму, где Вы описываете свою единственную встречу с ним. Неужели это правда, что, живя рядом, в Переделкино, Вы так и не зашли к нему, в тот дом, о котором Вы пишете:
По вечерам мне выпадала честь
Смотреть на дом и обращать молитву
На дом, на палисадник, на могилу —
То имя я не смела произнесть.
— Да, у меня с ним была всего лишь одна встреча. Я вообще боюсь и избегаю встреч с теми, кого обожаю. Даже к Набокову меня, по существу, насильно привезли. Я тогда сказала ему: простите, я не стремилась к этой встрече. Он улыбнулся, — потому что
Встреча с Пастернаком произошла, когда я училась в Литературном институте. К нему тогда ходили два моих приятеля, с которыми мы вместе подписали письмо протеста против гонений на Пастернака. Впоследствии они отказались от своих слов и предали Бориса Леонидовича. Они были настолько подлы, что сами приехали к нему и просили его разрешения поставить свои подписи под отказом от своих слов. Этот эпизод описан у Ольги Ивинской, в ее прекрасной книге о Пастернаке. Конечно, Борис Леонидович тут же разрешил им, ибо не хотел, чтобы
После смерти Пастернака я очень подружилась с его детьми, этот дом стал для меня родным. Но когда он жил там, я боялась и подумать пройти рядом. Со мной всегда так происходит: если я
— Между тем, у нас в России бытует мнение, что русский поэт не может успешно творить вдали от родины.
— Это не так: достаточно красноречивы в этом смысле примеры Бунина и Бродского. Великий поэт не только сохраняет, но и «плодит» свой язык сам, как народ. Он сам есть источник своего языка. Судя по сборникам Иосифа Бродского, пребывание за рубежом даже благотворно сказалось на его поэзии. Язык обогатился, он выбрал и
Конечно, подлинной трагедией была для него разлука с отечеством, которая произошла не по его вине, но, как это ни парадоксально, за границей его поэтический язык стал еще краше. И все же это скорее исключение, ибо поэты масштаба Бродского рождаются очень редко.
— Большинство Ваших почитателей убеждены в том, что дар актрисы в Вас так же значителен, как и дар поэта.
— Да, я всегда знала это в себе, любила сцену и чувствовала силу моего воздействия на публику, способность передать нечто… Хотя это мое призвание и приносило мне немало мучений. То, что я описала в стихах «Ночь перед выступлением», — все правда.
Сегодня, покуда вы спали, надеюсь,
Как всадник в дозоре во тьму я глядела,
Я знала, что поздно, куда же я денусь
От смерти на сцене, от бренного дела…
Каждое выступление отнимало у меня массу душевных сил. Вместе с тем с годами я сознавала все больше, что в таком чтении больше театральности, чем истинности. Великие Блок, Ахматова читали не так, их чтение — это чисто божественное свойство. У меня — театр. И злоупотреблять этим даром — значит наносить ущерб творчеству другого рода. Одна ночь труда наедине со своим столом, даже если не написано ни строчки, все же важнее любого публичного выступления.
Вообще эта манера публичного чтения с полной самоотдачей — чисто русская. Нигде в мире этого нет, и нигде публичное чтение стихов так не популярно. Я знаю, что в последние годы некоторые западные поэты тоже перенимают эту традицию у русских. Но часто они пытаются во время этих выступллений развлечь или потрясти публику. У меня тоже представление, но представление трагическое. Я нисколько не пытаюсь развлечь публику, не добиваюсь успеха и аплодисментов, я просто полагаюсь на устройство слуха сидящих в зале, «но
Видимо, это тоска по старой России и удивление перед тем, что еще есть люди, которые живут с этой мукой, исповедуются в ней и
— Я знаю, как трудно оценивать собственное творчество. Все же, в чем Вы видите свои сильные черты, а в чем слабости?
-Я прежде всего сознаю свои слабости как поэт, свою ущербность. Как писал Пушкин, «средь детей ничтожных мира, быть может, всех ничтожней он». Но я знаю в себе и нечто стоящее. Меня можно обвинять в чем угодно, кроме лукавства. Об этом я писала:
О только за то, что душа не лукава
И бодрствует, благосовляя и мучась,
Не выбирая, где милость, где кара,
На время мне посланы жизнь и живучесть.
Я убеждена, что лукавство, неискренность несовместимы с поэзией, и знаю множество примеров того, как люди теряли свой поэтический дар, когда начинали лукавить. Поэт продает свои способности, и они его потому покидают. У меня были искушения, но я вверялась судьбе как лошади, которая должна сама вывести из пурги. Я не поступалась чистотой слова.
Мне
Я надеюсь, что те, кто мне пишет, морально преобладают в нашей стране. Конечно, вы скажете, что
И все же я сама стала отказываться от выступлений по телевидению задолго до опалы. Да, люди видят мое лицо и глаза и остро чувствуют, что кроется за их печалью. Но слава, узнаваемость для толпы на улице — это все пустое. И судьба сама распорядилась и помогла мне освободиться от этого соблазна, когда я попала в опалу. Иногда мне говорят: зачем ты выступила в защиту Сахарова, ведь ничего ты этим не изменила, а мы многое потеряли, теперь мы не видим тебя по телевидению. Я не надеялась спасти Сахарова, я пыталась спасти свою душу.
Последнее время у меня был мрачный период, и стихи были мрачные: я все чаще писала о смерти, а это плохое предзнаменование, ибо поэт часто своими стихами предрешает свою судьбу и даже судьбу других. Но это случается только с очень хорошими стихами. А так как мои последние стихи меня никак не устраивали, то, я надеюсь, может быть, такие мрачные настроения и не страшны.
Да, Белла и в самом деле пребывала в довольно мрачном состоянии духа в
— Мне то время очень пригодилось, когда я не печаталась и не выступала. Я искала уединения и находила их в местах России, особенно любимых мною: в Петербурге (она сказала в Ленинграде А.М.) и его окрестностях, в Тарусе, на Севере. Волнение, владевшее мной, выразилось в моих стихах последнего времени. И я радуюсь, что многие люди на родине и здесь в США, оценили их.
АЗАРИЙ МЕССЕРЕР