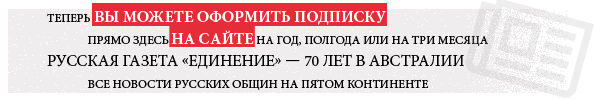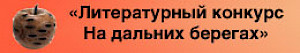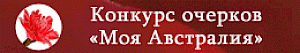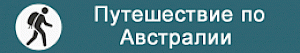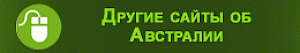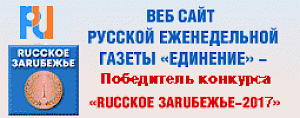«Ах ты, моя морзяночка!» — говорил мой будущий папа моей будущей маме, брал её лицо двумя руками и целовал, целовал горячо и быстро, приговаривая: «… точка, тире, тире, точка…» У неё на лице было несколько любимых им «точек»: ямочки на щёчках, кончик носика и губки. Остальные места считались «тире». Чтобы сказать фразу, с которой я начал своё повествование, он должен был чмокнуть её пятьдесят раз, а с учётом запятой и восклицательного знака — все шестьдесят два! Педант он был ещё тот!
Встретились они, восемнадцатилетние, на курсах телеграфистов-морзистов при Хабаровском военкомате. Точечные поцелуи настигли их только в конце, после экзаменов. А до этого были записки азбукой Морзе между изучением теории, соревнованиями на скорость передачи кодовой дроби и приёма на слух ритмичных «напевов».
Папа сдал экзамены успешно и был зачислен в резерв ГУСКА — Главного Управления Связи Красной Армии. Маме не повезло: она недостаточно хорошо владела грамматикой русского языка. Горе было бездонным. «Ах ты, моя морзяночка! — успокаивал её папа. — Не плачь, я беру над тобой шефство! У меня русский язык и литература всегда были на высоте!»
Повестка молодому мужу пришла летом сорокового. Начинающая солдатка регулярно получала по шесть почтовых открыток в неделю. Хотелось семь… «Ишь ты, ненасытная, — укоряла её свекровь, — на седьмой день даже боги отдыхают!» Всё пространство открыток, кроме адреса, заполняли точки и тире. Это были поцелуи военного телеграфиста в письменном виде. Они начинались с: «Ах ты, моя морзяночка!» и кончались удивительным четверостишием. Каждый раз новым! От стихов кружилась голова и счастливая улыбка не сходила с лица всё время, пока она «выстукивала» свои ответные нетерпеливые поцелуи…
То было время безмятежного «до». С июня сорок первого началось тревожное «после». Письма стали приходить редко. И уже не на открытках, а в треугольниках, но по-прежнему в точках и тире и со стихотворением в конце, после которого, как подпись, стояло краткое: «Я вернусь!»
Мама работала сортировщицей на Главпочтамте. Весь день на ногах перед необъятной стеной из клеток, постоянно раскрытых, как рты птенцов, требующих: «Писем! Писем! Писем!» После смены работницы Главпочтамта отправлялись в районные узлы связи, где не хватало своих почтальонов. Мама разносила почту по домам, чувствуя себя то ангелом, оставляющим на крыльце заветный треугольник, то чёрной птицей, приносящей скорбную весть в тяжёлом казённом конверте. А по ночам, обессиленная, перечитывала письма мужа.
Какие красивые строчки о любви! Где её родной, её любимый красноармеец находит такие слова! И казалось ей неправильным, что только она одна радуется таким стихам. Однажды она решилась отправить его письма в хабаровскую газету «Тихоокеанская Звезда». Там наверняка найдутся люди, тоже знающие код Морзе, и напечатают стихи в газете. И не ошиблась: нашёлся в редакции военный моряк Алексей Кривошеин. Он ответил ей коротким письмом:
«Дорогая Фаина, Ваш муж прислал Вам замечательные стихи. К сожалению, мы не можем напечатать их за его именем, так как они уже давно опубликованы за именами Тютчева, Фета, Баратынского, Есенина… Но не огорчайтесь: эти письма бесценны: они, возможно, единственный в мире сборник русской лирической поэзии на языке Морзе…»
Она и не огорчилась, поняла: стихи эти — давнишнее обещанное шефство, уроки русского языка и литературы. «Ненаглядный мой, — шептала она, — спасибо тебе! Я верю, что ты вернёшься. Ты обещал. Ты всегда выполняешь обещанное!»
И он не обманул. Он вернулся утром в августе сорок пятого, когда она выходила на работу… Они бежали друг другу навстречу вдоль покосившегося палисадника, по высокому бурьяну: она, задыхаясь от счастья, а он, сильно припадая на правую ногу.
«Ах ты, моя морзяночка!» — Он одной рукой прижал её лицо к своему и целовал, целовал горячо и быстро, приговаривая: «…точка, тире, тире, точка…»
Так для нашей семьи была поставлена последняя точка в войне. Так началась моя жизнь!..