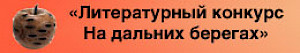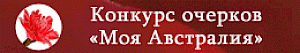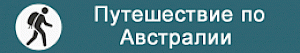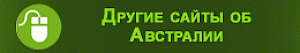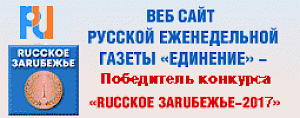В Австралии: c 1991г.Родился и вырос в Харькове. Закончил Политехнический институт. Переехал в Австралию в 1991г. Закончил Университет Мельбурна. Живет в Мельбурне, работает переводчиком и копирайтером.
2 AUGUST
MONDAY
В середине дня, в зимнем мельбурнском августе, погода вдруг резко испортилась: дождь, чуть ли не град, штормовой восточный ветер. Две медленные высокие старухи вошли в кафе. Они явно были ошеломлены, застигнуты врасплох на прогулке: казалось, даже ворс на ткани их жакетов был взъерошен ветром. Как две царственные, надменные птицы (цапли? фламинго?), за что-то изгнанные сюда из райского сада пернатых, они помедлили немного у входа, а затем двинулись к стойке, слегка растерянные, как бы отъединенные от всех сидящих в кафе своим острым переживанием борьбы с непогодой. Официантка вышла им навстречу, и они долго, неуверенно заказывали — один latte, один white tea, пирожные. Затем последовала еще минута замешательства, колебаний, и, наконец, они медленно сели за столик рядом со мной. Воспользовавшись удачным ракурсом, я стал за ними наблюдать. (А на улице разразилась настоящая буря: казалось, кафе наше летит как самолет над облаками, и серые их клочья пролетают в окне.)
В них было что-то общее: не внешняя похожесть, но определенного типа сходство, всегда шлифуемое общим временем, водой, погодой и культурой поверх любой индивидуальности. (В искусстве такого рода сходство возникает за счет единства стиля, жанра: так безошибочно подобны друг другу две комедии Гольдони.) Обе были продуманно-хорошо одеты; все еще красивые, четкие, как на листе металла начерченные лица, вытянутые, сухие фигуры — уже по-старчески окостеневшие, болезненно-хрупкие; темная кофейная кожа в тонких морщинах. Они постепенно оттаивали и успокаивались в теплом, неподвижном воздухе кафе, в домашнем желтом свете. Официантка принесла им кофе, чай и пирожные, и они заговорили друг с другом — на английском, с легким каким-то акцентом — восточным, южным? Я сидел достаточно близко и мог бы слышать каждое слово, но специально не вслушивался, для того чтобы воспринимать лишь общую мелодию разговора, минуя смысл отдельных реплик. Обрывки фраз звучали безукоризненно-правильно, слегка искусственно: would you like me to…, we should ask Patricia about…; все слоги тщательно выговаривались и концы предложений медленно, музыкально закруглялись. В их речи, в сдержанных, глуховатых голосах слышалось благополучие, замкнутость и мера. И история, пунктиром узнаваемая история. Если бы я был уличный художник-импровизатор, изображающий не лицо, но жизнь, ведущую к этому лицу, я стал бы сейчас набрасывать в своем альбоме… ну, что? корабль с беженцами, покидающий разруху и юдоль послевоенной Европы; молодую, смуглую кожу, улыбку и голод новой жизни; новые колеса Фортуны! — удачные замужества и мужья: рано лысеющие, с осторожными движениями, с умными лбами; темную зелень, частые прутья ограды; надежные, длинные «вольво». Все это так…, но сейчас, несмотря на то, что они давно уже согрелись и успокоились, и, о чем-то разговаривая, ели пирожные изящными десертными вилками, была все же в них какая-то тревога; какая-то ломкость, уязвимость…, жалость, которую вызывает оскорбленное высокомерие, пораженная гордость. Да, да, именно жалость, ощутимая, струящаяся в воздухе, все разъедающая жалость. Что это было — остаток страха от тех нескольких секунд, когда посереди прогулки на них вдруг напал яростный, нелепый ветер? Или другой какой-то ветер, неслышный мне, который вечно воет у них в ушах? Мне показалось на секунду, что я вдруг понял, что произошло, хотя я вряд ли сумел бы объяснить. Мне захотелось перегнуться к их столику и сказать: — Я знаю…
И следом за тем угрюмым, жалким, высокомерным, уязвленным, сумасшедшим и давно уже мертвым немцем прошептать: — Я знаю: человеческое, слишком человеческое!
17 AUGUST
TUESDAY
Сегодня в неврологическом отделении я переводил одной высокой, хрупкой женщине, похожей на сгорбленную стрекозу. Ее зовут Ирина, она из Кисловодска, приехала сюда около года назад. После приема у врача мы как-то незаметно разговорились, у меня был свободный час, и мы пошли пить кофе на Brunswick St.
Brunswick St — это модная улица, пережившая второе рождение в конце восьмидесятых — начале девяностых годов: полтора километра магазинов и кафе, угнездившихся внутри грубых хозяйственных строений иной эпохи (что в них помещалось — угольные склады? конторы и склады по оптовой торговле лесом?). Солнце вдруг вышло из-за туч и как-то нежно осветило эту смесь кофеина, дизайна, амбиций и героинового шика. Мы устроились в узком проходе между домами, в маленьком, почти игрушечном открытом кафе. Ирина сразу же вписалась в обстановку: она присела на высокий металлический стул, достала сигареты, чуть сгорбилась и мгновенно стала похожа на свой собственный «Портрет на фоне кирпичной стены». Мы продолжали разговаривать — кто, что, откуда, хорошая погода, теплая зима — зигзагообразная птичья болтовня — и я рассматривал ее, стараясь понять, почему мне хорошо с ней… хорошо, хотя нельзя сказать, что легко, и кого, или вернее что она мне напоминает.
Она была в том жестоком, на грани необратимого возрасте, который, как кто-то грустно пошутил, «отменяет все цветы и все обещания». Видно было, что в молодости она была красива — тревожной, хрупкой, несовременной красотой — и на мгновение какой-то невидимый глаз-хронометр внутри меня описал дугу длиною в двадцать лет, на секунду увидел ее там, в зените, в царственном, осином блеске, и — вернулся обратно, в зимний Мельбурн.
Она только-только переступила эту грань, и еще вскидывала голову, и чуть прищуривалась, закуривая сигарету, и легким уверенным движением отбрасывала волосы назад, и они скользили по плечам быстрой волной и падали обратно, но все это было не нужно, потому что время уже сделало все, что хотело с ее кожей, лицом, руками, она знала это, и это мучительное, загнанное знание блестело в ее глазах. Глаза — яркие, серые, с чистыми, едва заметного, фарфорового оттенка белками — были странно-нетронуты. И еще — она принадлежала к тому типу людей, чья внешность неуловимо меняется в течение одного дня, часа, разговора. Только что, казалось, она шла рядом со мной по улице — высокая, гибкая, худая, в какой-то необычной светло-серой не то кофте, не то шали, которая так правильно окутывала ее фигуру, и легкая, изнеженная сутулость уравновешена была красивой, откинутой назад головой, тяжелой массой блестящих, крупно вьющихся волос — казалось, она движется в специально выгороженном пространстве и все взгляды пристают и тянутся за ней.
А несколько минут спустя, в кафе, не столько следуя течению нашего разговора, сколько наткнувшись на что-то внутри себя, она вдруг осела, в ней сломался какой-то стержень, и она постепенно становилась похожа на сидящее чешуекрылое насекомое, на сгорбленную стрекозу; серая шаль превращалась в сухую хитиновую оболочку, и возраст резко проступил в ее облике: длинные худые руки лежали на столе, и кожа на руках была неровно-желтоватой, в филигранной, почти невидимой сетке морщин.
Наш разговор, как я уже сказал, беспорядочно переходил с одного на другое. Ирина с искренним, как казалось, любопытством расспрашивала обо мне, но я мог рассказать мало что интересного: внешние обстоятельства моей жизни кажутся мне настолько обычными, что я не способен рассказывать о них хотя бы с малейшей степенью воодушевления, и всегда отделываюсь односложными ответами: уже девять лет… неженат… родители и брат… Caulfield, потом St. Kilda… Говорила поэтому в основном Ирина. Она охотно и вроде бы довольно подробно рассказывала о себе, но при этом как-то странно опускала многие важные моменты, так что возникающая таким образом картина ее жизни хотя и обрастала подробностями, но не становилась яснее. Она описывала, например, процесс получения австралийской визы, и, дойдя до того момента, когда после долгого ожидания и проволочек виза наконец-то была получена, говорила: — Но конечно потом, из-за болезни, нам пришлось отложить отъезд еще на полгода, — и было совершенно неясно, кому это нам, из-за какой болезни, и кто этой болезнью болел, но при этом я чувствовал, что спрашивать об этом не стоит. Непонятно было, есть ли у нее кто-нибудь здесь, в Мельбурне, есть ли у нее дети, и если да, то где они. То, что у нее нет сейчас мужа или какого-то мужчины, мне почему-то было ясно, хотя сама она об этом тоже не говорила. У нее, однако, был брат — об этом я узнал благодаря тому, что, рассказывая об идее выгодной продажи перед отъездом трехкомнатной квартиры в Кисловодске одному богатому корейцу из Сочи, для чего требовалось эту квартиру сначала как-то сложно переоформить, она сказала задумчиво: — Но, конечно же, с моим братом это оказалось совершенно невозможно, — и я вдруг неожиданно для себя глубокомысленно кивнул и улыбнулся понимающей, грустной улыбкой, как будто с детских лет знал ее брата и мне поэтому ничего не надо было объяснять. Забавно, у нее была эта способность обволакивать вас своими рассеянными взглядами, жестами, своей видимой уязвимостью и как-то незаметно устанавливать в общении правила игры, нарушить которые казалось неприличным. Это было трогательно, хотя и немного смешно: я не могу сейчас удержаться от улыбки, вспоминая как она говорила, замедляя фразу: — Но, конечно же, с моим братом…, — и параллельно с этим ее длинная худая рука замедляла свое движение на фоне кирпичной стены, замирала в воздухе, кисть обламывалась в запястье, повисала, и сигарета чуть ли не выскальзывала из пальцев (она курила женские, темно-коричневые сигареты, которые мне почему-то хочется назвать лакричными) — … с моим братом это оказалось совершенно невозможно, — и я глубокомысленно кивал с понимающим, прилично-скорбным выражением лица — невозможно, совершенно невозможно. Моя состояние отчасти объяснялось и ее манерой говорить — длинными, сложными, безукоризненно, почти нереально-правильными для устной речи предложениями, она подбирала слова так тщательно, словно выстраивала пасьянс. Какие-то части этих предложений она произносила с неожиданно-задумчивой, замирающей интонацией, как бы обращая их внутрь себя, а затем вдруг поднимала глаза и спрашивала: — Ну, а вы.? А у вас.? — с таким веселым, легким любопытством, что мне показалось, что Алиса из страны чудес ожила, и, услышав за чайным столом у Мартовского Зайца историю о трех сестрах, которые жили на дне колодца, спрашивает c интересом: — Чем они питались?
В конце разговора мы обменялись телефонами, и Ирина предложила встретиться еще раз, в том числе и потому, что она хотела посоветоваться со мной об одном «сложном, очень деликатном деле», сущность которого осталась для меня загадкой, хотя она вроде бы обрисовала его несколькими длинными, филигранными, касательными предложениями.
— Позвоните мне обязательно и приходите в гости, — сказала она, вставая. — У меня такое ощущение, что мы подружимся.
Боюсь что да, подумал я.
1 SEPTEMBER
WEDNESDAY
Если бы когда-нибудь написать эту книгу, которая называлась бы «Летучий запах мокко», или «Кофейные ритуалы», или чуть ли не «В поисках утраченного кофе» — о кофе и о жизни, т. е. о том, чем становится кофе в жизни одного человека; о том, как, однажды появившись, он (кофе) сопровождает его (человека), растворяясь в его жизни, примешивая к ней и сгущая свой вкус и цвет… Среди прочего можно было бы написать в этой книге и о том, что первая утренняя чашечка кофе — это иногда единственное, ради чего встаешь с постели. У кого-то давно читал: люди делятся на две категории — те, кто просыпается утром счастливыми, и те, кто просыпается несчастными. Речь идет о самом первом мгновении после ночного сна, когда уже себя осознал, но ничего еще не вспомнил о своей жизни, о том, что там в ней было вчера-сегодня-завтра. Есть такое быстрое, легко потом забываемое мгновение бодрствования с чистым сознанием — луч света в пустой комнате с белыми стенами. Так вот в это-то мгновение одним якобы свойственно быть счастливыми, а другим — несчастными. Я в рамках этой теории располагаюсь в достаточно правой части спектра: за всю жизнь было может быть дней двадцать, когда я просыпался счастливым; несколько сотен (тысяча?) дней, когда я просыпался спокойным, внутренне-расслабленным и ни от чего не бегущим, пусть не счастливым, но и не несчастным — спокойным! И эти дни я постепенно научился ценить не меньше, чем счастливые. Ну, а все остальное — это разнообразные оттенки коричневого. Живописцы, окуните ваши кисти… Как точно сказано в дневнике Лидии Гинзбург: «… привычное пробуждение в комнате, где беззвучно стоял темный декабрьский воздух. Мне казалось: этот мир меня никуда не зовет». То есть — незачем и не к кому вставать? не к чему вставать? И вот тогда-то возникает спасительная идея утренней чашечки кофе. Потому что следующая ночь все равно же сразу не наступит, все равно будет тянуться этот день, а представить себе целый день без хотя бы одной чашечки — невозможно. А что бы ее приготовить, надо как минимум: а). вылезти из кровати; б). сполоснуть лицо; в). почистить зубы; г). поставить чайник; д). открыть банку с кофе; е). насыпать и размешать сахар… В общем, к тому моменту, когда кофе готов, и первый горячий глоток катится по пищеводу, вопрос о том, зачем было вставать, приобретает чисто академическое значение. Перефразируя все ту же Лидию Гинзбург, которая сказала, что «…оказывается можно жить и в особенности умирать с нерешенными вопросами», я бы добавил, — оказывается можно прожить целый день, так и не поняв, зачем надо было вставать. Ну и потом этот вкус — вкус кофе — он все равно тебя, хочешь, не хочешь, как-то соединяет с жизнью за окном, с миром сегодняшней погоды, светофоров, новостей, землетрясения в Бангладеш и всего прочего. Но его трудно описать: его основу — не привкусы, а вот эту самую «кофейность» — невозможно объяснить через что-то еще, свести к каким-то составляющим; она первична и неразложима, как золото, нефть, спирт, огонь. Ну и множество других вещей, связанных с кофе, например этот школьный вопрос: мужского или среднего рода? Есть какая-то необъяснимая, но неоспоримая, европейская что ли, элегантность в том, что кофе — сваренный, приготовленный, в маленьком стеклянном стаканчике или в кофейной чашке — это он. Так же как виски в тяжелом низком стакане, янтарного цвета, мне кажется тоже должен быть он. Но кофе, когда это груды кофейных зерен в мешках с сургучными печатями, в огромных вращающихся жаровнях — это оно. Как время. В кофе есть какое-то качество времени — в тусклом кофейном блеске, в его горечи, в тихом прищелкивающем шуме, когда пересыпаются кофейные зерна. Мне жаль, что древние греки не знали кофе — они обязательно придумали бы ему отдельного, смуглого бога…
9 SEPTEMBER
THURSDAY
Сегодня днем я сидел в кафе на Grattan St. Кафе какого-то неопределенно-латинского происхождения — как элегантный bastard, в крови которого смешались дед-итальянец, бабка из Сардинии, мальтийский дядя и спившийся отец-полуфранцуз. Потемневшее гладкое дерево, круглые матовые лампы на металлических кронштейнах, ввинченных в стены, черные стулья; на стенах фотографии в желтой гамме — того царственного, пергаментного, львиного желтого, который я так люблю. Если бы только можно было не выходить опять на холод и слякоть, а так вот сидеть целый день и смотреть на развернутые газеты, на латунные пепельницы, на восьмигранные бутылки Amaretto и на официанток — того же происхождения, что и кафе (бабка из Сардинии, отец-полуфранцуз) — все в одинаковом, облегающем черном, с татуировками из хны на плечах. И у всех отрешенные, удаленно-безразличные лица — не женщины, а какие-то весталки в храме Кофеина… В центре храма идол — кофейная машина: длинная, шипящая, сверкающая, никелированная, хромировано-анодированная, с преувеличенно-итальянским, оперным каким-то названием, которое я никогда не смогу запомнить — нечто среднее между Rigoletto и bambino. За машиной стоят три парня: коротко подстриженные, с красиво посаженными головами, упрямыми подбородками и неизбежным (почти комичным в своей неизбежности) выражением на лицах, в котором смешаны в равных долях мрачность, упорство, уверенность и уязвимость. Белые рубашки с закатанными рукавами, смуглая кожа — последовательные оттенки смуглости: переводя взгляд с одного на другого, как будто видишь ножку циркуля, скользящего по карте от Андалузии к Северной Африке. Любой из них, наверное, мог бы быть Антонио Бандерасом. Просто что-то не сложилось и поэтому они стоят пока за кофейной машиной, но нам это не важно, поскольку в узком пространстве между стойкой и кухней они двигаются с той же непринужденной точностью, с той же спокойной, гибкой грацией, с какой стреляет, смотрит и любит на экране их более удачливый кузен Антонио. Он — там; они — здесь. Щелкают рукоятки кофейной машины, коротко шипит пар, стаканчики espresso — блестящие, с нежнейшей пенкой cremá — беззвучно становятся на подставленные блюдца. — Two machiattos, one espresso, thank you, — и взгляд матадора, который верит, что убъет быка, упирается в следующего посетителя: — Sir?
13 SEPTEMBER
MONDAY
5–6 часов вечера, зимой, это время я очень не люблю. Медленно тускнеющий воздух, «светляки» и «жуки» стальные автомобилей и окон; пауза между концом работы и началом вечерней (настоящей!) жизни. Ричард Бертон в «Анатомии меланхолии»* пишет, что «… чувствительная душа отзывается на унылое помрачение дневного храма». Он, наверное, прав. Там, в России, была еще какая-то влажность и острота от снега, темнеющий воздух был чуть синий. В Мельбурне же это просто быстрое сгущение в черноту и холод, который кажется резким после нестрашного, прогретого солнцем дня. Мой организм наверно не вырабатывает какой-то антисумеречный гормон, потому что в восьмом еще классе (что в моем случае было просто детство) я впервые почувствовал то самое «унылое помрачение дневного храма».
По вторникам я ездил к частному преподавателю английского, и стоя на задней площадке троллейбуса, прижатый к стеклу, смотрел, как высоко в воздухе опрокидывается бутылка с тушью и она, медленно разливаясь, охватывает мой 8-й троллейбус и всю мою такую, казалось бы, защищенную, удобно-детскую жизнь, и с этим ничего, ничего нельзя сделать. Странно — я ничем еще не был ранен, никакой болью, почти ничего не знал про себя, и когда пытался хоть как-то это объяснить это себе, какими-то живыми картинками заслониться от равномерно разливающегося облака туши, я представлял себе… Что я представлял? Женщину в рыжей дубленке, с тающим снегом на щеках и ресницах (женщина из рекламы крема «Наташа», дубленка и тающий снег от меня), и то, как она едет в другом таком же троллейбусе в свою вечернюю жизнь со смехом, ужином и горячим чаем, а потом она же в комнате с другими людьми — три-четыре человека, чуть старше меня, я не знал, кто они и что они делали вместе (наряжали елку, ели-пили, варили глинтвейн) — но я знал, что им было хорошо, и в комнате как яркий свет разлито было счастье, а сама комната, без адреса, сияющей, золоченой клеткой висела над городом, а они прыгали в ней, как птицы, смеялись, поклевывали свое ореховое счастье, и я знал, что никогда эту комнату не найду.
* «Анатомия меланхолии»: забавно, что в англоязычной литературе эта книга — популярный источник эпиграфов и цитат, хотя я сомневаюсь, что современный человек в состоянии прочесть более полутора страниц этого сочинения. Дело, я думаю, в названии: «Анатомия меланхолии» — роскошное название. Я восхитился, когда давно когда то, еще на русском, прочел о нем в журнале: «Анатомия меланхолии» — это я, я должен был написать такую книгу! Все думал, где бы ее достать, как бы все узнать о внутренних органах меланхолии… Потом, через много лет, в библиотеке мельбурнского университета наткнулся на шесть тяжелых, как кирпичи, томов, заполненнных непроходимым, неподъемным, тоскливо-многословным текстом 17-го века. И такая же история была у меня с «Невыносимой легкостью бытия» Милана Кундеры: невыносимая легкость бытия, к сожалению, оказалась вполне выносимой сутолокой жизни… «Анатомия очарования» — вот какую книгу надо бы написать! «Анатомия очарования»… или нет — «Анатомия разочарования»!
17 SEPTEMBER
FRIDAY
Я побывал в гостях у Ирины, женщины с лакричными сигаретами. Ей опять удалось меня удивить — начиная с того момента, когда она продиктовала свой адрес по телефону: 1/1 Cole St, Brighton.
Brighton — очень дорогой район, и Cole St — улица возле самого моря, усаженная огромными старыми деревьями, и состоящая — насколько я помнил — из сдержанных особняков, всегда напоминавших мне о названии одного из фильмов Бунюэля — «Скромное обаяние буржуазии». № 1 однако оказался длинным зданием серой штукатурки, наполовину увитым плющом и вертикально разделенным на пять двухэтажных квартир. Ирина встретила меня у ограды — она гуляла с собакой.
Квартира ее была похожа на замысловатую, темную шкатулку, хозяйка которой, похоже, старалась держать ее запертой, чтобы не потревожить неподвижный, пряный воздух внутри. Все было затянуто тяжелыми тканями, задернуто шторами и уставлено старинной мебелью, которая казалась сдвинутой сюда из какой-то более просторной прошлой жизни. Дневного света не было — горели люстры и лампы в плафонах из цветного стекла. Мы поднялись на второй этаж по лестнице, устланной таким толстым ковром, что ступеньки ее совершенно утратили твердость и прямоугольность, и походили на одно из волнообразных творений Гауди. Ирина ушла переодеться (русская привычка, которую и я не утратил — всегда переодеваться в домашнее, заходя в дом с улицы), а я остался бродить среди оттоманок и этажерок, и рассматривать старые фотографии. На них были запечатлены в основном групповые семейные портреты 1920-30-х, снятые, кажется, где-то в Германии, и фрагменты восточных городов — минареты, базары, закутанные в белое старцы. Была очаровательная фотография мальчика-копта, несущего через узкую улицу поднос с кофейными чашками, оглянувшегося на оклик фотографа; был портрет женщины в полный рост, в летнем платье, с крупными белыми бусами — вероятно матери или бабушки Ирины, с тем же ясно вылепленным лицом, но без ее нервной хрупкости, а наоборот — с уверенной статью, и притом женщина на фото была еще выше, крупнее, чем Ирина. Прадед у них, наверное, вообще был кавалергардом. Ирина между тем вернулась в комнату со столиком на колесах с фруктами, сладостями и старинным фарфоровым кофейником. От кофе мне пришлось отказаться — я был уже достаточно возбужден всем увиденным, и в бедном моем воображении проплывали, как лошадки на карусели, различные объяснения этого загадочного великолепия. Вместо кофе мне был предложен успокоительный чай из одуванчика. Появились лакричные сигареты, и когда я увидел, что пепел стряхивается в бронзовую пепельницу в форме лягушки, инкрустированную крупными, ярко-синими камнями…
Ирина, однако, несколько охладила мою разыгравшуюся фантазию. Квартира на самом деле принадлежала ее тетке. Тетка, очень старая и больная, лежала сейчас в больнице. Собственно, благодаря тетке Ирина и приехала в Австралию — она получила визу специальной и довольно редкой категории «по уходу за одиноким родственником». Во время второй мировой войны тетка — сестра матери — оказалась на окупированной территории, попала в Германию в числе других ''перемещенных лиц'', после войны не вернулась в Россию, а продолжила вместо этого свои перемещения и приехала в конечном итоге в Австралию — но не сразу, в через Италию, где она жила полгода в монастыре сестер-урсулинок, Мальту и Египет. Тучки небесные, вечные странники…
— Это она в Каире, в 1947 году, — показала Ирина на фотографию, которую я только что рассматривал.
— И в Каире она вышла замуж за арабского шейха и жила в гареме? — попробовал пошутить я.
— Нет, — улыбнулась Ирина, — в Каире она вышла замуж за антиквара из Вены по фамилии Крон де Ротерманн. А тетю мою зовут Варвара, так что она стала Варвара Крон де Ротерманн: пять «р»!
— А по батюшке она, наверное, Аристарховна? — поинтересовался я приходя во все более веселое расположение духа.
— Николаевна, — опять улыбнулась Ирина, — Варвара Николаевна.
Ее улыбка не столько следовала перепадами разговора, сколько возникала и гасла сама по себе, в режиме рассеянного мерцания, и обращена была, казалось, не только ко мне, но и к кому-то невидимому у меня за спиной, за спиной и чуть-чуть сбоку, так что мне хотелось все время обернуться, отодвинуть свой стул и пригласить счастливого призрака принять участие в нашей беседе.
— Так это все от венского антиквара, — обвел я взглядом оттоманки, этажерки и бронзовую лягушку, — весь этот… ляпис лазури?
— Ляпис-лазули, — поправила Ирина. — Ляпис-лазули или ляпис-лазурь. Да, у него был антикварный салон в Мельбурне, не салон даже, а целая галерея — Rothermann and Lasker, она существует и по сей день. Сам Ротерманн умер пять лет назад, и тетя продала дом в Армадейле и купила эту квартиру. Не очень удачное место, правда, потому что у моря всегда больше света, а у нее светобоязнь… так что мы живем тут как дети подземелья, — она кивнула в сторону мрачной портьеры, которая исключала всякую надежду на свет и свежий морской воздух.
Мне показалось, что в последних ее словах прозвучало приглушенное раздражение. И действительно — старая тетка, больная, со своими причудами, и притом чужая ей совсем, она ведь никогда ее не видела до приезда в Австралию.
— Но я вам хотела рассказать об одном деле, — прервалась Ирина. И почти сразу же опять уклонилась, проскользнула, как по скользанке, по названию улицы, которую зачем-то надо было упомянуть в начале рассказа о деле, и оказалась в своей прошлой жизни в Кисловодске, в 1970–80 годы. Она заговорила зачем-то о подругах, нотариальной конторе, где она работала нотариусом, кафе, где они собирались в перерыв — чужая, милая жизнь, и я как-то расслабился, отвлекся (или успокоился, может быть, чаем из одуванчика) и стал слушать… хотя и не сильно вслушиваясь. Бывает так, что ловишь только отдельные слова рассказчика, и независимо от его рассказа начинаешь видеть, дорисовывать как бы такие из ниоткуда в никуда плывущие картинки — блеск ложечки и сигаретный дым вместо кто умер и почему он никогда не мог простить…
Ирина, должно быть, рассказывала мне историю со смыслом, с логическим началом и концом, а я все видел, как в прелестный летний день сидели молодые женщины в кафе, болтали, смеялись, сплетничали о знакомых, говорили о том, что нужно посмотреть этот французский фильм с Анни Жирардо, допивали кофе, щелкали замками своих сумочек и косметичек, вставали, отодвигая стулья, мимолетно оглядывались на прошедшую мимо пару влюбленных, солнце светило им в глаза и они щурились, и опять щелкали замками сумочек, доставая темные очки — и все это, эта жизнь — не само даже кафе, французский фильм, очки, а разговор их, то, что было мгновенно в воздухе, на губах, в глазах — все это исчезло. Этот простой факт, такой же неоспоримый, как и то, что яблоко падает вниз, как всегда вызвал во мне какое-то тревожное, тупое недоумение. (В этом кафе в Кисловодске я, кстати, тоже бывал: такой просторный павильон в верхнем парке.)
— Но мне нужно рассказать вам об одном деле, — опять прервалась Ирина. — Я хочу вас о чем-то попросить…
Она, наверное, хочет отравить тетку и завладеть квартирой, почему-то подумал я. Мне стало весело: я всегда верил, что когда-нибудь в жизни это случится — приключение, уходящие в прошлое взрывоопасные интриги, наследство, чемоданы с долларами. Но Ирина, глядя на меня ясными, серыми глазами, рассказала нечто совсем другое, что было интереснее любых интриг и отравлений, и что полностью свело на нет, развеяло, а пух и прах, можно сказать, благотворный эффект чая из одуванчика.
Валиум, думал я на пути домой, сворачивая по указанию зеленой стрелки на Fitzroy St, валиум! Там еще оставалось две таблетки.